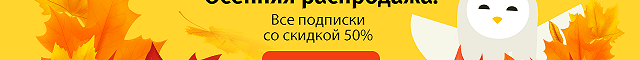
Певец
Я пел всегда. И никогда не нежно.
Сказать по правде, не пел, а орал. Но мама считала, что у меня абсолютный слух. А потому, когда в возрасте трех лет я нагло заявил «Мама, больше никогда не пой», она навсегда перестала петь про лунную поляну, чтобы не травмировать хрупкий талант.
Я же подобную заботу о ближних проявлял редко. И искал себе слушателей везде и всегда.
Оказавшись в троллейбусе по дороге к больницу (в детстве меня постоянно таскали по врачам), я вскарабкивался на сиденье и вопил, силясь перекричать всех:
О, дайте, дайте мне свободу —
Я свой позор сумею искупить!
Спасу я честь свою и славу!
Я Русь от недруга спасу!
Моя еврейская бабушка была близка к инфаркту. И волоком тащила потом меня в Филатовскую (что рядом с Планетарием), не решаясь больше сунуться в общественный транспорт.
Добрая докторша Руфь Самуиловна, успокаивая Бабаню, на своё горе решила проверить – не оказала ли скарлатина губительное воздействие на слух и голос ребёнка. На предложение «Женя, скажи что-нибудь» я ответил диким рёвом:
Стонет Русь в когтях могучих!
В том она винит меня!
Потом настало время революционных песен, разученных под руководством деда Гриши, у которого с советской властью были свои счёты.
На Дону и Замостье
Тлеют белые кости!
Над костями гудят ветерки!
Помнят псы-атаманы!
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки!
Иййй…
Эх, тачанка-ростовчанка!
Д-наша гордость и краса!
Пу-ле-мёт-на-я! Тачанка!
Все четыре колесааа!
Деду нравилось. Он разрешал мне петь в троллейбусе.
Мне семь лет, почти восемь. Я выпускник первого класса. И я же боец 13-го отряда пионерского лагеря имени Зои Космодемьянской. Моя мама вожатая 1-го отряда. У старших – КВН. Мне предложена роль Цыганёнка в сценке про Неуловимых мстителей. В 13-м отряде завидуют все.
По сценарию было так. Я выхожу, делаю широкий взмах рукой и произношу «Цыганский романс! Очи чёрные!» И тут «тра-та-та» – я падаю замертво, меня утаскивают за кулисы под мои крики: «Спрячь за высоким забором девчонку…» Вот и вся роль. Смешная, но короткая.
Вышло так. Я махнул рукой «Цыганский романс! Очи чёрные!» Тут «тра-та-та». Глянул в сторону «пулемётчика». Придумал: «Мазила». И заорал:
Очи чёрные!
Очи страстные!
Очи жгучие!
И прекрасные!
Это не укладывалось в сценарий. Пулемётчик превратился в кавалериста и со шваброй наголо бросился на маленького очкарика. А вот вам фиг. Вёрткий я.
Как люблю я
Вас!
Как боюсь я
Вас!
Бойцы 1-го отряда гонялись за мной по сцене. Но сквозь грохот баталии доносился до зрителя мой голос писклявый:
Знать увидел
Вас!
Я в недобрый
Час!
Триумф! Жюри было единодушно. Цыганёнка до вечера носили на руках. Утром я проснулся знаменитым, с первой в своей жизни кличкой «Очи Чёрные».
– Мама, правда, голубые?
Яша
У Яши были грустные глаза. А еще морщины и редкая рыжая шевелюра. Яша родился орангутаном и долго жил в зоопарке. Потом его отправили на пенсию – в пионерский лагерь имени Зои Космодемьянской. Так мне рассказал Взрослый, который ухаживал за Яшей и другими в живом уголке. Имени Взрослого я не помню. Помню: у него были грустные глаза, как у Яши.
Мне тогда было семь лет. Я окончил первый класс с одной четверкой. Мама взяла меня с собой в пионерлагерь, где работала вожатой первого отряда. Меня записали в тринадцатый, для самых маленьких. В этом лагере, думала мама, я перестану кричать во сне. Потому что в мае мы похоронили Виталика, который сгорел вместе с моим другом Валериком. Они мне снились: синий Виталик и оранжевый Валерик.
Синего Виталика я видел в гробу. На похороны Валерика мама меня не пустила. Хотя директор школы настаивал. Весь класс должен был хоронить обоих, чтобы «получить урок на всю жизнь». Потому что мы тоже поджигали.
У директора не получилось. Мы поджигали и потом.
В лагере ко мне относились хорошо. Хотя я был очкариком. Наверное мама поговорила, чтобы не обижали. Про Валерика и Виталика я никому не рассказывал. Но все почему-то знали, что у меня кто-то умер.
Даже в тихий час мне разрешали ходить в живой уголок, а не лежать в постели. Если днём не посплю, можно надеяться на крепкий ночной сон, без крика.
Взрослый познакомил меня с Яшей. Мы стали друзьями. Потому что дружить с кроликом, ежиком или черепахой неинтересно. А с Яшей… с Яшей дружить было трудно. Обычно он что-нибудь жевал, повернувшись ко всем спиной. Взрослый говорил, что жевать Яше вкусно и больно. Со старыми так бывает.
Мне не разрешали приносить Яше еду, но можно было попросить у Взрослого огурец – и протянуть через прутья просторной Яшиной клетки. Когда в первый раз Яша согласился взять у меня огурец, я рассмеялся и напугал его. Стало ещё смешней, потому что раньше никто меня не пугался.
Взрослый объяснил, что с Яшей надо вести себя тихо, ведь он уже совсем старый, а старики не любят шума. И я учился не шуметь в гостях у Яши. Иногда мы просто сидели друг напротив друга. Яша уже не отворачивался. Он смотрел мне в глаза, не моргая, и смешно морщил лоб. У меня тоже были морщины. Я в зеркале видел. Они мне нравились. Но у Яши их было больше. Мы играли с Яшей в гляделки. Обычно он побеждал.
И кошмары прошли. Я не заметил – как. Просто перестали сниться горящие Виталик и Валерик, а стал сниться тихий Яша. Хороший такой сон. Иногда он улыбался мне. Во сне. Наяву Яша стеснялся улыбаться. У него были плохие зубы.
Потом надо было ехать домой.
Я знал, что скажет мама, но всё равно спросил: можем ли мы забрать Яшу к себе. Потому что осенью, зимой и весной в лагере никого нет, и ему будет грустно. И мне будет грустно. Без Яши.
Мама вроде как подумала над моим предложением. И сказала: нет, Яше у нас будет тесно. Нам и вдвоём-то тесновато.
Я понимал, что не это главное. Что Яше просто нечего делать в наших полутора комнатах на четвертом этаже кирпичного дома в микрорайоне Капотня.
Мама согласилась на канарейку. Вернее, на кенара. Я назвал его Кешей. Он тоже был немного рыжим.
С Яшей мы больше не виделись.
Жопой в муравейник
Это было очень больно.
И обидно.
Потому что глупо.
В «Зое Космодемьянской» нас водили плавать на озеро. Там такие мостки. И с них надо прыгать. Было страшно, но все побежали – и я побежал. И прыгнул. Плавать я тогда еще не умел, зато умел идти на дно. Добрался я до дна, схватился за сваю, подтянулся – высунул нос. Дышу.
Я вокруг вопли и брызги. Не люблю.
Снова ушел на дно, и по дну добрался до берега.
Чувствую, пора пописать. И босой в трусах карабкаюсь на песчаный мыс, где то ли ели, то ли сосны.
Вскарабкался. Чувствую, не писать мне пора.
Присел. Смотрю на ужасное внизу. Никто меня не видит. Хорошо.
И тут случилось страшное. Очень болезненное. Совершенно несправедливое. Кто-то вдруг хвать меня! За это самое. Ну, у мальчиков есть, у девочек нету.
Кааак я кричал! Я тааак кричал, что снизу ко мне бросились все лагерные мучительницы разом.
О, ужас. Как быть?
Натягиваю трусы.
А они бегут.
Что им сказать-то? Что меня туда укусили?
Позору…
Оглядываюсь. Кругом вереницы рыжих муравьёв.
А они бегут. Мучительницы.
И тут, о чудо, вижу Огромный Белый Гриб. Мне по колено.
Я его вытаскиваю и поднимаю над головой.
Они добегают.
– Ого, Финкель, вот это Гриб! Ты поэтому так кричал?
– Ну, да.
– А ты знаешь, Женя, что посреди муравейника голый стоишь?
– Ой.
Ванна
Как же я мечтал о своей. Белоснежной, глубокой, тёплой, с игрушками. И чтобы никто не стучал в дверь. И чтобы с пеной.
У нас с мамой в Капотне ванной не было. Слева по узкому коридору, который заканчивался крохотной кухней, была такая прореха в стене, в ней можно было стоя замуровать одного человека, не больше. Внутри помещались краны и душ на длинной ржавой трубе. Вверху желтела тусклая лампочка. Внизу зияла дыра для слива воды, прикрытая решеткой. Чтобы набрать воду, надо был взять две лыковые мочалки, залепить ими дыру и сесть на них попой. Если постараться, можно было набрать до пупа. Мама так не делала, только я.
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке
Другие проекты