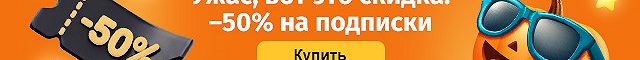
6 февраля утром Петр Ильич был приглашен в Студенческое общество, где ему представлялись студенты; в своем дневнике он так отметил это посещение: «торжественный, глубоко тронувший меня прием». На речь одного из студентов Петр Ильич отвечал речью. Провожаемый криками «слава!», «на здраво!», он отправился на генеральную репетицию концерта. Вечером в городском клубе («Мещанская беседа») был устроен блестящий вечер, с «овациями без конца», как отмечает в своем дневнике виновник торжества.
7 февраля состоялся концерт в Рудольфинуме. В программу его вошли: 1) «Ромео и Джульетта». 2) Концерт фп. B-moll в исполнении А. Зилоти. 3) Элегия из сюиты № 3. 4) Концерт скрип. в исполнении Галира и 5) «1812 год». Из всех этих вещей особенными овациями сопровождалось исполнение последней увертюры. Петр Ильич так отметил впечатление этого концерта: «Конечно, это один из знаменательнейших дней моей жизни. Я очень полюбил этих добрых чехов… да и есть за что! Господи! Сколько было восторгов, и все это не мне, а голубушке-России».
8 этот же день, в 7 часов, в Hotel de Saxe состоялся парадный банкет, на котором Петр Ильич прочел по-чешски составленную им речь. Перевод для него был сделан русскими буквами с указаниями ударений, так что все прочитанное было понято присутствовавшими и произвело большое впечатление. Вот эта речь:
«Господа, когда мне мой друг, Велебин Урбанек, сделал от имени «Умелецкой беседы» предложение, чтобы я приехал в Прагу и продирижировал здесь концертом, составленным из моих сочинений, то я обрадовался этому от всей души.
Живописная красавица-Прага, обладающая столь редкими кладами старинного искусства и воспоминаниями седой старины, конечно, очень интересна для каждого иностранца, но понятно, что сердце славянина бьется особенно сильно, когда ему представится возможность посетить ваш родной город. Обрадован я был еще и потому приглашением «Умелецкой беседы», что мне представился случай познакомить один из оживленнейших музыкальных центров Европы с некоторыми моими новыми сочинениями в исполнении прославившихся своим искусством чешских музыкантов.
Но была еще одна причина, почему мне было особенно приятно посетить Прагу. Во время моей многолетней музыкальной деятельности, от ее начала до последнего времени, суждено мне было близко сталкиваться с музыкантами-чехами, которые отдали свой талант, свои знания художественной деятельности в России. Знаменитый и, по-моему, самый выдающийся скрипач нашего времени, Фердинанд Лауб, был моим товарищем как профессор Московской консерватории. Нас связывала нежнейшая и сердечнейшая дружба. Многим из вас, конечно, известно, что я старался по своим силам послужить памяти его сочинением, которое многие считают лучшим из моих произведений.
Крепкая, близкая, даже на миг не омраченная дружба связывает меня еще и с другим выдающимся артистом чешского происхождения, с Эдуардом Направником. Этот замечательный музыкант оказал мне много дружественных услуг, и его душевные качества: прямота, честность, деловитость, готовность служить каждому, кто в нем нуждается, имеют во мне давнего и постоянного почитателя.
Если я перечту всех наиболее выдающихся чехов, которые посвятили себя музыкальной деятельности в России, то окажется, что все они, более или менее, мои близкие друзья. Гржимали, Палечек, Авранек, Главач, Фюрер, Шуберт, Черни и другие научили меня сердечно любить и уважать их национальность.
Итак, когда состоялось мое приглашение в Прагу, я предчувствовал, что найду в вашей среде теплый и сердечный прием, я знал, что число моих чешских друзей очень увеличится. Я был убежден, что переживу много радостных минут. Но то, что совершается здесь в течение этой недели, эти горячие выражения симпатии, которые я встречаю от всех без исключения, начиная с самых выдающихся лиц до последнего служителя в гостинице, где я живу, – наконец, прием, которым меня сегодня удостоила пражская публика, – все это превзошло мои самые смелые надежды и ожидания.
Не из неуместной скромности, но по правде, я должен сознаться, что оказанные мне почести превосходят меру моих заслуг настолько, что они потрясли бы и уничтожили меня, если бы я не умел отделить ту часть симпатии, которая касается меня лично, от той, которая в моей особе воздается чему-то гораздо высшему и важнейшему, чем я. Да! Если бы не было этого сознания, которое ставит меня на настоящее место и дает моим силам возможность перенести весь бесконечный восторг и счастье, то я не нашел бы средств выразить вам мою благодарность. Мой слабый, бедный голос слишком незначителен в сравнении с этими далеко раздающимися рукоплесканиями и этим хором похвал, который я слышу уже целых восемь дней.
Господа, поверьте, что там, где живет братский и близкий вам народ, составляющий то значительное и важное, о котором я только что помянул, сумеют умно и сердечно ответить на ту часть гостеприимного отношения вашего, которая не ко мне направлена.
Что касается меня, то я уверяю вас, что дни, которые я провел здесь, суть лучшие и счастливейшие всей моей жизни. Благодарность моя за это невыразима и безмерна. Считаю долгом закончить тост за художественное учреждение, которое удостоило меня своим приглашением, чтобы я по мере возможности содействовал слабыми силами к его процветанию. Господа, я провозглашаю «Наздар Умелецкой беседе!».
8 февраля Петра Ильича пригласили осмотреть частный музей и посетить дамский клуб, где его приветствовали речами, подношением цветов и роскошного альбома.
9 февраля состоялся второй концерт в помещении оперного театра. Программа его состояла из: 1) серенады для смычковых инструментов; 2) вариаций из сюиты № 3; 3) фортепианного соло в исполнении Зилоти и 4) увертюры «1812». В заключение был исполнен балетной труппой пражской оперы акт из балета «Лебединое озеро». Овации были еще горячее и задушевнее, чем на первом концерте, подношения еще роскошнее. В дневнике своем Петр Ильич, говоря об этом концерте, отмечает: «Огромный успех. Минута абсолютного счастья. Но только минута!» После концерта был торжественный ужин, в котором почти исключительно принимали участие музыканты.
10 февраля, вечером, сопровождаемый напутственными речами, усыпанный цветами, Петр Ильич покинул гостеприимную Прагу.
В описании этих торжественнейших и самых блестящих десяти дней жизни Петра Ильича я ограничиваюсь этим сухим перечнем, не приводя ни речей, ни статей по адресу гостя, потому что задушевность, даже при красоте и талантливости, изощряясь на возвеличение и хвалу в минуты увлечения, – имеет значение, прелесть и долговечность цветов, усыпающих путь триумфатора. Благоуханные искренностью и прекрасные уместностью в данную минуту, все эти слова, потраченные на прославление Петра Ильича, взору спокойного читателя покажутся сухими, бессодержательными и однообразными. К тому же, как отлично понимал сам Петр Ильич, значение национальных симпатий здесь отодвигало на задний план чисто артистическое, которое нам наиболее интересно.
Хотя главная цель поездки Петра Ильича за границу была – познакомить Европу со своими произведениями, содействуя их распространению за пределами родины, но при этом, несомненно, хотя в значительно меньшей мере, – узнать воочию степень уже достигнутой им там известности и получить соответствующую дань почета. Мнительный и скромный в этом отношении, он не требовал многого, и даже то, что встретил в Германии, уже значительно превосходило его ожидания, но пражские чествования превзошли самые фантастические представления о том, что он мог найти в Европе. Эти десять дней составляют высшую точку земной славы, которой Петру Ильичу суждено было достигнуть при жизни. Пусть девять десятых встреченных им оваций относились не к нему, а к России, но самый факт, одно то, что именно он, а никто другой был признан достойным сосредоточить в себе те симпатии, которые чехи питают к русским, льстило его самолюбию, показывая, как известно его творчество. Льстило его самолюбию и то, что чествовал его так народ, по любви, по уровню развития массы, по исполнительским дарованиям самый музыкальный в мире, а более всего, что Прага, первая признавшая гениальное значение Моцарта, одна воздавшая ему при жизни должное, хоть в чем-нибудь сроднила судьбу его, Петра Ильича, с судьбой немецкого гения. Отрадно было Петру Ильичу, что те, кто дал ему «минуту абсолютного счастья», были потомки людей, давших изведать сладость земной славы его любимцу, учителю, образцу всех достоинств артиста и человека. И это неожиданное совпадение было, может быть, лестнее всего, что когда-либо получал Петр Ильич при жизни, это была высшая из высших наград, на которую он когда-либо смел рассчитывать.
Изведав высочайший момент своей славы, Петр Ильич изведал и одну из тягчайших обид. Русская пресса ни одним словом не промолвилась о пражских чествованиях русского композитора. Ему чудилось в этом глухое недоброжелательство и тем более удивляло и огорчало, что, будучи, несомненно, одним из важнейших событий его жизни, все эти торжества были также событием и для чехов. Много лиц, подолгу, десятками лет жившие в Праге, говорили ему, что не видали подобного чествования какого-либо иностранца. И вот, сознавая какую огромную долю восторженных приветствий он должен был уступить России вообще, Петру Ильичу было больно и обидно, что она этого не знает и что из-за отношения прессы к его личности выражения горячих и искренних симпатий чехов к русским не только остаются без ответа, но даже не дошли до них.
К А. Чайковскому
Прага. 10 февраля 1888 года.
Голубчики мои Толя и Паня, я провел здесь 10 дней и не писал ни единого письма, ибо никакой возможности не было. Я пишу дневник и впоследствии могу рассказать подробно все, что со мной случилось за это время, но описать не могу. Меня встречали здесь как какого-то представителя всей России. Встреча в первый день была грандиозная. С тех пор все мое пребывание было вереницей всяких празднеств, торжеств, осмотров достопримечательностей, серенад, репетиций, концертов и т. д. Я нашел много чехов, говорящих по-русски. Меня с утра до вечера угощали, возили, всячески ласкали и баловали. Самые концерты (их было два) имели колоссальный успех. Вчерашний концерт был в театре, и по окончании его давался превосходно обставленный 2-ой акт «Лебединого озера». Я оказался оратором, сказавшим не только множество ответных речей на всех праздниках, дававшихся в мою честь, но даже на большом банкете прочел длинную речь по-чешски к великой радости присутствовавших. Всего не перескажешь в коротеньком письме. Усталость моя превосходит всякое вероятие, и я не понимаю, откуда у меня берутся силы выдерживать все это. Сегодня еду в Париж. Все время здесь был со мной Зилоти, и за 2 дня до 1-го концерта приехал Юргенсон. Оба они сейчас уехали, а я сел за письма, которых мне нужно написать так много, что для каждого хватит лишь маленького листочка. Я мечтаю, что в неотдаленном будущем увижу вас. Господи, когда же настанет спокойствие?! Однако я должен признаться, что в Праге испытал много чудных минут.
III
Совсем другого рода овации ожидали Петра Ильича в Париже.
Здесь тоже успех его превзошел самые смелые предположения. Здесь тоже с утра до ночи, но еще в течение втрое большого времени, Петр Ильич был предметом самых лестных выражений сочувствия. Но характер их так же разнствовал с чешским, как разнствуют чех и француз в своих отношениях и к самой музыке, и к русскому народу. Чех любит и то, и другое несравненно глубже; и то, и другое в жизни его играет роль несравненно более значительную. Нет страны, где бы музыкальное искусство было более ценимо и распространено. Нет также и народа, где бы все русское встречало более сочувствия не в силу временных веяний, а в силу кровного родства с нами. Поэтому и как музыкант, и как русский Петр Ильич встретил там искренность и непосредственность симпатий, какой нельзя было ожидать от французов. Правда, некоторая доза политического оттенка примешивалась и к парижским торжествам. Это было время разгара франко-русского сближения, и все русское было уже модно. Многие совершенно чуждые музыкальному искусству французы считали долгом заявить свое сочувствие Петру Ильичу потолику, поколику он русский – но все это, как и самые симпатии французов к нам, не покоилось на прочном основании национального сродства, а эфемерной политической комбинации выгод двух могущественных держав. Вследствие чего выразителем хотя бурного и страстного, но непрочного увлечения всем русским могли быть шляпы «Kronstadt», галстуки «franco-russe», овации клоуну Дурову, пение «Боже царя храни» рядом с марсельезой, пожалуй, – интерес «свысока», как к курьезу, к нашей литературе и искусству, но отнюдь не радостная встреча двух национальностей на почве одинаковых, сродных симпатий и стремлений ввысь и вглубь. И результатом кронштадтских, тулонских, парижских и какие там еще были торжеств не могли явиться понимание и любовь к Пушкину, Гоголю и Островскому, к Глинке, Даргомыжскому и Серову, а только проходящая мода, благодаря которой Л. Толстой и Достоевский были до известной степени оценены, но далеко не поняты во всем их настоящем величии. Моден был и Петр Ильич, и это сообщило приему его парижанами большой блеск, но блеск чисто внешний; того отзвука своим творениям, который придал такую теплоту и искренность пражским овациям, здесь он не нашел.
К тому же, торжества в честь композитора – событие для небольшой столицы небольшой страны, как Богемия, – не могли быть таковыми для многомиллионной столицы мира, волнуемой сотнями интересов и забот несравненно значительнейших. Можно без преувеличения сказать: вся Прага приветствовала Петра Ильича; в Париже – музыканты, музыкальные дилетанты, соотечественники, газеты, увлеченные франко-русскими веяниями, и та разношерстная толпа, которая следит за газетными новостями и рекламами.
Чтобы докончить сравнение пражских оваций в честь Петра Ильича, я укажу на последствия тех и других. Прошло 13 лет, и в Праге до сих пор оперы Петра Ильича не сходят с репертуара, и симфоническая музыка известна и любима, как в России. В Париже – он не только почти не исполняется совсем ни в театре, ни на концертных эстрадах, но даже имя его, в остальной Европе все более чтимое, не признано до сих пор достойным быть включенным в список авторов, допускаемых в концертах Парижской консерватории, а во главе ее стоят люди, расточавшие в 1888 году выражения своего сочувствия. Не объясняется ли это исключительно той глухой антипатией французов к русскому духу, которую Петр Ильич делит вместе как с великими предшественниками своего искусства, так и с представителями всего высокого и глубокого, что дала Россия?
Петр Ильич приехал в Париж 12 февраля и сразу окунулся в омут суетливого, почти постоянного общения с людьми. Чуть ли не прямо с вокзала ему пришлось присутствовать на репетиции своей струнной серенады, которую разучивал Колонн со своим оркестром для парадного вечера в доме Бенардаки и которой должен был дирижировать сам автор.
Н. Бенардаки, женатый на г-же Лейброк, сестре трех очень известных в России оперных артисток[19], имел роскошный отель в Париже, где гостеприимно собирал весь цвет музыкально-артистического Парижа. В качестве соотечественника и музыкального мецената он первый дал сигнал к чествованиям Петра Ильича в Париже, устроив у себя музыкальный вечер с участием оркестра Колонна, своей супруги и свояченицы[20], пользовавшихся репутацией прекрасных салонных певиц, а затем таких первоклассных исполнителей, как братья Решке, Лассаль, Диемер, Тафанель и Брандуков. Кроме серенады для смычковых инструментов, на вечере этом Петр Ильич дирижировал еще Andante cantabile 1-го квартета и аккомпанировал всем солистам. И вот в хлопотах об этом вечере, в репетициях и оркестра, и отдельных исполнителей прошли первые дни пребывания в Париже. Сверх этого, по настояниям своего издателя, Маккара, игравшего роль Вергилия в мытарствах композитора, Петр Ильич должен был делать визиты выдающимся французским музыкантам и редакциям популярнейших газет в отплату за ту готовность рекламировать его приезд, которую они помимо его забот выказали.
Блистательный музыкальный вечер собрал более 300 приглашенных в салонах Бенардаки. Тут были все представители того tout Paris, перед которым благоговеют и артисты, и ценители всей Франции. Милостивое внимание, один факт присутствия, одобрительный шепот кучки этих пресыщенных и, в сущности, равнодушных ко всему прекрасному людей есть высшая награда, о которой грезят артисты всех стран, – патент на внимание не только Парижа, но всего привилегированного мира.
И Петр Ильич был искренно благодарен добрым хозяевам этого вечера за неожиданную и совершенно необходимую в условиях парижской жизни рекламу, которую они ему подарили. Содействовать успеху ее, бегать по квартирам исполнителей для репетиций отдельных номеров, благодарить их за внимание он считал необходимой оплатой за оказываемую ему услугу; выступить в качестве дирижера перед этим собранием несерьезных дилетантов, сплоченных, кстати сказать, несравненно в большей степени тщеславием, чем любовью к искусству, добиться их ленивого одобрения – он считал лестным и значительным. Но, зная, что это ему стоило несравненно большего утомления и хлопот, чем дебют перед таким настоящим, достойным его судом, как суд в лейпцигском Гевандгаузе, – невольно жалеешь даром потраченных сил и испытываешь чувство обиды за художническое достоинство нашего композитора. Когда видишь его, расстроенного, утомленного и, судя по дневнику, очень несчастного, среди чуждой толпы, в раздушенном салоне, среди блеска туалетов и бриллиантов архиизящных дам, расфранченных и безупречных фраков, завтра в том же составе долженствующих «консакрировать» успех новой шансонетной певицы или танцы Лои-Фюллер; – невольно сетуешь на судьбу, что она не оставила его в деревенской тиши, среди интимной, родной обстановки, здорового физически и морально, спокойного, бодрого, обдумывающего план нового творения. Слава Богу еще, что Петр Ильич, добровольно подвергая себя этой пытке, утешался мыслью, что «это нужно», и не дожил до настоящего времени, когда так ясно стало, что «этого вовсе не было нужно», ибо нигде путем больших жертв ради популярности своих произведений он не достиг меньших результатов, как в Париже.
Блеск этого дебюта удесятерил количество знакомств, а с ними приглашений и визитов. Те из парижских музыкальных светил, которых не было в Париже летом 1886 года, сошлись с Петром Ильичом теперь. И все, начиная с Гуно, Массне, Паладиля, Гиро, Жонсьера, Тома, выказывали тончайшую предупредительность и сочувствие. Очень холодно и величаво обошелся с ним только автор «Сипора» и «Саламбо», что весьма мало печалило Петра Ильича, ибо он, со своей стороны, считал ничтожным дарование этого господина, смешною – его тенденцию, совершенно непонятным – его успех, впрочем, не заходящий за пределы Франции. – Из виртуозов, которых Петр Ильич узнал в это время, больше всего впечатления на него произвел Падеревский: «великолепный пианист», говорит он о нем в своем дневнике. – Среди лиц, не имеющих касательство до музыки, более всего ему доставила удовольствие встреча с Каран-д-Ашем, которого он в последний раз видел в начале семидесятых годов в Москве мальчиком и теперь узнал знаменитостью Парижа.
Популярность музыки Чайковского дошла в Париже до того, что как раз во время пребывания там Петра Ильича появился роман[21], в котором большую роль играет романс «Нет, только тот, кто знал». Петр Ильич ужасно был польщен и шутя хвастался этим гораздо более, чем восторженнейшими отзывами музыкальной критики.
О проекте
О подписке
Другие проекты