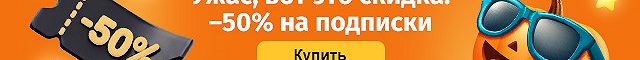
– Какой смысл? – сказал брат Улферт. – Их причитаниями Эригену не воскресить. Мне было ясно, что убийца кто-то из них. Я надеялся, что он проявит себя, когда узнает, что орудие убийства исчезло. Я забрал окровавленный грифель и спрятал в надёжном месте.
– И как? – спросил я. – Кто же из братьев стал нервничать?
– Никто, – сказал брат Улферт. – Либо они все в сговоре, либо искренне поверили, что Эригену наказал бог или дьявол за его вольные речи.
– Ты ведь говорил о смерти Эригены с братом келарем? – сказал я.
– Говорил и не раз. У брата Ансельма сложное отношение к Иоанну Скотту. С одной стороны, он его уважал, он начитан, знаком с трудами Аристотеля, любит рассуждать о той древней секте (25), что считала цифры основой мира. Чтобы ты знал, брат Ансельм неплохо знаком с греческим, не в той степени, чтобы быть переводчиком, но вполне достаточно, чтобы понимать написанное. С другой стороны, он абсолютно убеждён в том, что если постоянно смотреть на небо, то можно ослепнуть от увиденной картины. Надеюсь, ты понимаешь мою аллегорию.
– Не очень, – сказал я. – Может быть, братом Ансельмом руководила обычная зависть, один из главных человеческих грехов.
– Не думаю, – сказал брат Улферт. – Если бы он захотел, мог изложить свои взгляды на мир письменно, эта книга вызвала бы интерес, если не на острове, то в научных франкских школах точно. Но брату Ансельму не нужна тщетная слава. Он никогда этого не скрывал и часто, при свидетелях, пенял Эригене, что тот лишь суммирует для варваров знания, которые древние великие мужи предлагали просвещённым людям. Брат Ансельм апологет блаженного Августина, который справедливо полагал, что Рим пал со своим великим искусством и своими великими пороками в первую очередь потому, что это великое искусство и эти великие пороки раздавили его.
– Ты согласен с этим мнением? – сказал я.
– Не согласен, – сказал брат Улферт. – Я считаю, что Иоанн Скотт пошёл вверх по лестнице познания, а блаженный Августин остался сидеть на нижней ступеньке, что никак не умаляет достоинств Августина. Великий Отец жил в иные времена. Это сейчас легко противопоставлять Христа дремучему Одину. А тогда великие умы неоплатоников царили в мире, с ними непросто было спорить о том, что есть истина.
– Я не первый раз слышу о слабости Эригены к древним философам, – сказал я. – Может быть, он тайный язычник?
На лице брата Улферта отразилось слабое подобие улыбки.
– Мне смешно тебя слушать, уважаемый визитатор. Разве для того, чтобы разобраться в себе и в мире, нужно отказываться от Христа? Я попробую объяснить тебе разницу между Августином и Эригеной. Первый полагал главной своей задачей, главной целью, сущностью всех своих рассуждений, показать, как человек может придти к блаженству под сенью Господа. Эригена, имея ту же цель, любопытствует частностями, для него самый этот путь не менее, даже, может быть, более важен, чем конечная благодать. В этом смысле, Августин проще и понятнее, его будут повторять и перечитывать, а Иоанна Скотта, вероятно, забудут. Это моё мнение, скорей всего, никчемное, как, возможно, и твоё мнение, и мнение брата Ансельма, и даже мнение Эригены. Бог нас рассудит, если сочтёт это нужным. Поверь мне, брат Ансельм – неистовый спорщик, но не убийца.
– Предположим, – сказал я. – Брат Ансельм сказал мне, что при омовении тела аббата он не видел никаких ран. Следовательно, он солгал. И следовательно, он покрывает убийцу и почему бы ему не находиться в сговоре с тобой?
– Тогда зачем мне говорить правду? – возразил брат Улферт. – Я мог ответить, что вместе со всеми вошёл на рассвете в келью аббата и увидел его отошедшим к Господу во сне.
– Действительно зачем? – сказал я. – Боишься видения, в котором медведь с человеческой головой разрубит тебя пополам?
– Эригену убили, – сказал брат Улферт. – И убийца должен быть наказан. Это справедливо.
– Ты говорил брату Ансельму о том, что спрятал окровавленный грифель?
– Нет, не говорил. Я не сомневаюсь в его невиновности, но также допускаю, что брат Ансельм мог подумать худое про меня. Это огорчило бы его, а мне очень нравится с ним разговаривать. Здесь вообще можно разговаривать только с ним и, изредка, с братом Тегваном.
– Но увидев рану на теле Эригены, он прекрасно понял, что совершено злодеяние, – сказал я. – Ты сам говоришь, что брат Ансельм не дурак, он должен был кого-то заподозрить. Получается, что он покрывает убийцу, скрывая правду от меня.
– Мне довольно трудно это объяснить, – сказал брат Улферт. – Брат Ансельм, без сомнения, добрый христианин, но как у любого человека, у него есть своя червоточина. Он любит рассуждать о том, что древние называли fatum – судьба. И хотя святые Отцы, и в первую очередь блаженный Августин, убедительно показывают, что никакой судьбы или рока у человека нет, а есть только Божья воля, неизменная и всепроникающая, но, мне кажется, что брат Ансельм с этим не вполне согласен. Увидев рану, он мог решить, что Высший суд над Эригеной уже состоялся, а что касается суда человеческого, он по определению не может быть окончательно истинным. Если же будет наказан невиновный только потому, что требуется найти кого-то, кто совершил убийство, это грех. Если промолчать, Бог всё равно накажет убийцу, если не на этом свете, тогда на том.
– Опасная точка зрения, брат Улферт, – сказал я. – Приводит государство в хаос. В начале разговора ты обмолвился, что подозреваешь некоего человека. Назови его.
– Единственный человек, который обрадовался бы смерти Иоанна Скотта, это брат Тегван.
– Серьёзное обвинение, – сказал я. – Все уверены, что брат Тегван ученик Иоанна Скотта. Я видел, как он неподдельно рыдал в ногах у Его Высокопреосвященства архиепископа Кентерберийского, прося найти и наказать убийцу Учителя. Если это клевета, брат Улферт, тебе несдобровать.
– Иуда тоже рыдал на плече у Спасителя и клялся в вечной любви в ночь Искупления. Брат Тегван, конечно, не Иуда, но именно с ним Иоанн Скотт чаще всего беседовал в Малмсбери. Думаю, что брат Тегван очень хорошо понимал, на какие высоты поднимается Эригена в своих рассуждениях, к самому краю того самого ничто, не сути, где наши привычные образы рассеиваются и теряют понятное нам содержание. Ведь не зря все философы мира едины всегда только в одном: выразить божественный дух человеческими словами почти невозможно. Это путь, который может увести от бога к самому себе. Думаю, что брат Тегван испугался.
– Испугался чего? – спросил я. – Полёта философской мысли?
– Я думаю, что он испугался последствий, – сказал брат Улферт. – Что Учителя подвергнут гонениям, книга «Перифюсеон» будет запрещена и сожжена, как это было с трактатом «О божественном предопределении», пройдут годы, и учение Эригены сотрётся из памяти, будто его и не было вовсе. Если же Учитель умрёт мученической насильственной смертью, есть шанс, что память о нём сохранится. Согласись, что, возможно, тот же мотив руководил и Иудой, когда он предавал Христа. Предавал, чтобы не забыли.
– Но ведь брат Тегван был в аббатстве Гластонбери, когда умер Эригена, – сказал я. – Это не очень просто, но можно проверить, когда он его покинул.
– В этом нет нужды, – сказал брат Улферт. – Брат Тегван вернулся в Малмсбери примерно через неделю после смерти Иоанна Скотта. Он сообщил нам всем, что по дороге сильно заболел и несколько дней провёл в беспамятстве в одной деревне. Недомогание было такое тяжёлое, что он даже не запомнил названия этой деревни.
– Странное совпадение, – сказал я. – Однако пока ты меня ни в чём не убедил. В любом случае, как ты понимаешь, я доложу, что ты являешься «circatores» архиепископа Реймсского. Полагаю, что тебе прикажут покинуть монастырь и остров.
– Я понимаю, – сказал брат Улферт. – После смерти Эригены мне нечего делать в Малмсбери.
Должен с прискорбием заявить Вашему Высокопреосвященству, что это дело становится всё более запутанным. Я несколько дней нахожусь в аббатстве, но ни на шаг не продвинулся в расследовании происшествия. Брат Улферт показал мне грифель, которым, по его утверждению, был убит Эригена. Он закопал его в укромном месте под кустом орешника недалеко от тропинки, которая ведёт к ручью. Грифель был завернут в тряпицу, сохранившую следы крови. Но была ли это кровь Иоанна Скотта или чья-то другая, определенно сказать не могу.
От желания провести очную ставку между братом Улфертом и братом Ансельмом я тоже отказался. Если они в сговоре, это бесполезно. Если не виновны, тем более вряд ли брат Ансельм будет менять занятую им позицию о свершившемся Божьем суде. Я решил наблюдать за монастырскими братьями в надежде найти какую-нибудь зацепку и обратил пристальное внимание на поведение брата Тегвана.
Брат Тегван весь день проводит в библиотеке. Я навестил его под предлогом посмотреть последнюю, не оконченную работу Иоанна Скотта – гомилию на Откровение Иоанна.
– Он почти её завершил, – сказал брат Тегван. – Мечтал поднести королю Альфреду для торжественной рождественской литургии. Оставались небольшие стилистические мелочи и краткое рассуждение против Гермеса Египтянина (25) – о ложных богах и душах, вызываемых из статуй. Учитель считал, что во время войны с язычниками данами это важно.
– Расскажи мне, что за человек был аббат?
– Лёгкий человек, – сказал брат Тегван. – Хотя и тучен. Как-то принято считать, что настоящий философ всегда угрюм и погружён в себя. Брат Иоанн был хохотун, любил посмеяться над собой, иногда над другими. Не удивлюсь, если в молодости он был большим забиякой.
– Он ведь почти всю жизнь был мирянином. Ты что-нибудь знаешь о его семье?
– Одна из немногих тем, на которые он не любил разговаривать. Однажды обмолвился, что в юности в Ирландии у него была девушка, они собирались пожениться. Во время нападения норманнов эту девушку угнали в рабство. С той поры, как он выразился, перефразируя Боэция, утешается философией (26).
– История, похожая на выдумку, – сказал я. – Во всяком случае, где-то я слышал подобное.
– Может быть, – сказал брат Тегван. – Брат Иоанн полагал, что его книги интереснее, чем его жизнь.
– Ты ведь читал книгу «Перифюсеон»?
– Очень внимательно, – сказал брат Тегван. – Задавал Учителю вопросы, когда мне было непонятно.
– Чем же она так крамольна? Или почему могла вызвать раздражение во франкских научных школах?
– Нет в ней никакой крамолы, – убеждённо сказал брат Тегван. – Просто франки как-то быстро закостенели в своём понимании истины. Не все, конечно, Иоанн Скотт рассказывал, что епископ Лана Пардул был в восторге после прочтения его книги и некоторые другие тоже. Многим же проще не читать ничего кроме того, что уже есть у признанных авторитетов. Ты можешь сам изучить «Перифюсеон», два экземпляра находятся в библиотеке, их привёз с собой Иоанн Скотт, и ещё один – у брата Ансельма, я переписал по его просьбе.
– У меня не так много времени, – сказал я. – Да и потом, я простой каноник, а не философ. Изложи, по возможности, кратко, о чём эта книга.
– Это не так просто, – сказал брат Тегван. – В книге пять разделов, каждый посвящен отдельному взгляду на природу видимую и невидимую, и только все вместе они создают целостную картину мира. Конечно, Иоанна Скотта можно обвинить в том, что многие свои постулаты он заимствовал у языческих философов, но разве это плохо – повторять чужую мудрость.
– Мудрость бывает разная, – сказал я. – Вот у фарисеев, как учит Писание, она оказалась ложной. А у поэта Вергилия, который предугадал явление Спасителя в своей Четвертой Эклоге (27), истинной.
– Я прочту тебе одно место из книги, – сказал брат Тегван. – В самом начале, мне оно так нравится, что я выучил наизусть: «Часто, когда я размышляю и усерднее, чем достает сил, вникаю в первое и важнейшее разделение всех вещей, которые могут быть восприняты духом или превосходят устремления его: в разделение их на те, что суть и те, что не суть, для всего этого в голову мне приходит общее наименование, которое на латинском звучит – природа. Природа, стало быть, есть общее имя для всех, что суть и что не суть».
– Нечто похожее писал Порфирий, – сказал я. – Кажется так, кентавры, гиганты, люди с собачьими головами и прочее, сформированное ложной мыслью, обретают в нашем уме некий образ, хотя и не существуют в действительности.
– Многие об этом писали, – сказал брат Тегван. – О всеобщем делении – исхождении и умножении единой природы. Поэтому Эригена в своём труде не хочет ничего и никого отбрасывать. Но он пошёл дальше: деление природы должно смениться на восхождение и единение, которое будет происходить путём разрешения низших форм телесных в высшие духовные. Совершаться это объединение будет во всечеловеке – человеческой природе, понимаемой как целое, которая будучи образом Божьим, одна только и способна переплавить в себе всё тварное с тем, чтобы в назначенный срок вернуться в Творца. Поэтому и спасение будет тотальным.
– Для всех? – сказал я. – Убийц, насильников, язычников?
– Иоанн Скотт писал не о сегодняшнем времени, – сказал брат Тегван. – И не о конкретных людях. Ведь человек есть всего лишь некоторое понятие в уме бога. Постарайся понять, бог и выше природы, и включает в себя природу. Выйдя из бога, человек так и иначе возвращается в него. Конец мира равен его началу: Господь создал одного человека, один человек вернётся к нему.
– Действительно, не так легко всё это принять, – сказал я. – В жизни больше приходится думать о хлебе насущном.
– Брат Иоанн говорил мне, что сначала он так и хотел назвать книгу – «Рассуждения». В этом стремлении к рассуждению и есть подлинная цель его книги. Он любил повторять слова Аристотеля: «Умопостижение вот главная моя забота». Назвал же «Перифюсеон» – «О природах» – скорей в силу сложившейся традиции.
– Скажи мне, брат Тегван, Иоанн Скотт ведь почитал блаженного Августина?
– Разумеется, – сказал он. – Странный вопрос. И Августина, и всех других великих Отцов церкви. Для него их труды были незыблемым основанием.
– Основанием чего? – спросил я. – И разве дом церкви, построенный ими, в чём-то недостаточен? Мне казалось, что на прошедших за несколько веков Вселенских Соборах, Никейских, Эфесском, Константинопольских, были окончательно решены все вопросы церковного и мирского обустройства? Разве это не так?
– Это так, – сказал брат Тегван. – Я понимаю, к чему ты клонишь. Все главные вопросы давно решены, дело учёных разъяснять послания Апостолов и другие святые книги. Это так и в то же время не совсем так.
– Что же не так? – спросил я.
– Давай посмотрим назад, – сказал брат Тегван, – как ты и предложил. Великий Рим пал четыреста лет назад. Но существовал он до падения тысячу лет, и ещё тысячу лет, пока Рим был латинской деревенькой, процветали греческие и азиатские города, Троя, из которой поэт Вергилий вывел основателей Рима. А ещё до этого неведомое количество веков был Египет, колыбель разума, где побывали и учились большинство великих греческих мудрецов. Когда блаженный Августин в «Граде Божьем» обрушивается на ложных и преступных богов этих народов, им владеет вся страсть истинной веры, но в этих же строчках видна искренняя грусть человека, который наблюдает, как его родной мир гибнет у него на глазах.
– Это было неизбежно, – сказал я. – Только свет истинной веры может озарять мир.
– Это верно, – сказал брат Тегван. – Поэтому Августин обличает и грустит одновременно, понимая, что многие его современники пребывают в неведении и праздной лености. Но ведь были среди древних и умнейшие мужи, которые, заблуждаясь, искали причины этого мира – кто-то полагал, что мир создан из воды, кто-то – из воздуха, кто-то из огня, потом – из сочетания четырех стихий, потом – из множества причин, склеивавшихся как невидимые частицы. Думаю, что они были на пути к богу, вечному, единому, не нуждающемуся в причине, но творящему множество причин. Но тут явились мы, дикие, с дубинами, разрушили города, сожгли библиотеки, растоптали всё подряд, угодно Богу, не угодно, не разбирали.
– Ты сожалеешь о старом мире? – сказал я. – Он вряд ли бы пал, если бы был так хорош.
– Я не сожалею, – сказал брат Тегван. – Я трезво смотрю на вещи. За прошедшие четыреста лет мы надели на шею нательные крестики, но едва ли перестали быть дикарями из леса. Нам могла бы помочь Империя, но её императоры и её богословы смотрят на нас высокомерно и презрительно, конечно, имеют на это право, с высоты своего знания и величия своих книг, дразнят нас как зверей, а мы и отвечаем, подобно зверям, дикими оскалами. Иоанна Скотта ненавидели при дворе короля франков именно за то, что он знал греческий и считал греческих богословов первейшими. Эригена был тот человек, который остро понимал: всё надо начинать сначала.
– Разве знания Священного Писания недостаточно? – сказал я.
– Для кого как, – ответил брат Тегван. – Эригена ведь рассуждал не для всех. Люди не равны, вернее, они все равны перед богом, но между собой рознятся и по достоинству, и по талантам. Нелепо, наверное, представить, чтобы дикий дан вдруг стал умиляться категориям сущего Аристотеля. Для меня неловко и даже возмутительно утверждать что-то за Учителя, но, полагаю, что он думал о будущих людях, которые захотят изучать и классифицировать этот мир. Может быть, что спустя века над ним посмеются, как над ученической подножкой, но без подножки не бывает магистра.
– Апостол говорил: «Знание надмевает, только любовь назидает» (28).
– Это ошибка, трактовать слова Апостола как противоречие, – сказал брат Тегван. – Ведь любовь без знания может привести к демонам.
– Брат Ансельм мог убить Эригену? – сказал я.
– Мог, – сказал брат Тегван. – Его мог убить любой из братьев. Но на брата Ансельма я думаю меньше всего.
– Почему?
– Брат Ансельм как отражение в воде. Подует ветер, пойдёт зыбь. Засветит солнце, образ будет яркий и добрый. Когда с ним говоришь, будто в пустоту проваливаешься.
– Ты туманно изъясняешься, – сказал я.
– Брат Ансельм всегда наблюдатель. Он может спорить, но никогда не скажет ничего такого, что думает на самом деле. Ему не интересно что-либо делать самому. Он будет слушать, долго, терпеливо, пока ты сам наконец не сделаешь то, чего ему хочется. Я думаю, он складывал мысли Иоанна Скотта у себя в голове, он ими питался, ему стало одиноко после смерти аббата.
– Значит, он мог вдохновить на убийство, – сказал я.
– Мог, – сказал брат Тегван. – Но чьими же тогда мыслями он стал бы питаться? Я уверен, что Иоанна Скотта убил фриз Улферт, наёмный убийца, присланный из Галлии. Ты только посмотри на него: ему человеческий хребет переломить как соломинку.
– Внешнее впечатление часто обманчиво, – сказал я. – Ты оказался прав, брат Улферт «circatores» реймсского архиепископа, но «circatores» никогда не убивают, они лишь соглядатаи и доносчики.
– Не знаю, – насупился брат Тегван. – Мне нужно работать. У тебя есть ещё вопросы, брат Эльфрик?
– Есть, – сказал я. – Что за недуг случился с тобой по дороге из Гластонбери?
– У меня поднялся сильный жар. Меня приютили крестьяне в одной крохотной деревне. Несколько дней я пролежал в полном беспамятстве, а потом недуг как рукой сняло. Я полагаю, что у меня было воспаление брюшной слизи.
– Как называется эта деревня? – спросил я.
– Я не знаю, – сказал брат Тегван. – Я торопился в Малмсбери. Я тебе уже говорил, у меня были нехорошие предчувствия, когда я покидал Учителя. Не ожидал, что ты будешь подозревать меня, брат Эльфрик.
О проекте
О подписке
Другие проекты
