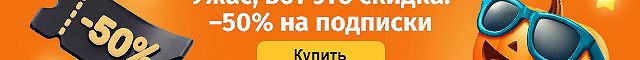
На обратном пути заглянула к курицам. Хотела было по привычке выпустить их на задний двор, чтоб покопались в земле, опилках, погуляли. Уже и дверь широко открыла, и тут вспомнила: ведь это последний день! И для куриц – последний.
– Кыш, кыш, – отогнала обратно в глубь стайки. – Нельзя.
Курицы покорно тоненько забормотали, словно всё поняли… Петуха не было уже два года – все ждала переселения, а как тут еще и с цыпушками…
Зажгла лампочку, сыпанула из фляги дроблёнки. Глянула в миску – вода была.
– Сидите здесь, – велела, – нельзя на улицу.
И курицы отозвались смиренным:
– У-у-у… к, у-у-у… к. – Стали клевать.
Все они были рыжие, круглые, из одного выводка. Лишь Чернушка – маленькая, сухонькая – черно-серая. Этим, рыжим, третий год, а Чернушке десять.
Тогда, десять лет назад, случился мор – по одной, в судорогах, взбивая крыльями пыль, курицы дохли. У Ирины Викторовны их было четырнадцать и петух еще – большой, важный, с огромным гребнем. И все передохли. Осталась только эта. Ирина Викторовна дала ей имя – Чернушка, – хоть и простенькое, но все-таки. Так-то курицы проживали свой короткий век безымянными, почти неотличимыми друг от друга. Выделялись чаще всего драчливые, бесплодные, клюющие яйца. Но их не прозывали, а называли подлыми или злыми, кышкали на них чаще, чем на других, и в конце концов ловили, без сожаления отрубали головы.
А эта, Чернушка, была тихой и ручной, ходила за хозяйкой как собачка, напевала ей свои куриные песенки, а потом – удивительно – стала нести по два яйца в сутки… Раньше Ирина Викторовна не раз слышала о таких случаях, но не очень-то верила – люди любят похвастать, даже приврав, – а тут вот сама увидела: проверяла гнездо утром – яйцо, вечером заглядывала – еще одно. «Спасибо, Чернушенька, – говорила Ирина Викторовна, – помогаешь мне, милая».
Осенью она купила новых куриц и петушка, а Чернушку рубить стало жалко. Так она и жила, пережив уже несколько поколений. «Пускай своей смертью помрет, – решила Ирина Викторовна. – Заслужила».
И вот теперь каждое утро находила взглядом свою курочку, и в груди сжималось: «Жива». Так же напевает, доверчиво глядя на хозяйку, подходит к самым ногам, словно прося, чтоб ее взяли, погладили. А ведь вот-вот нужно будет кончать. И что делать с ней? Тюкнуть топором по шее, ощипать, вынуть потроха – рука не поднимется. Но куда ее деть?.. Лучше бы уж околела. Зарыть на огороде – и все.
Торопясь, но все-таки медленно, не поспевая телом за мыслями, направилась в избу. Чайник, наверно, кипит-перекипает… Попить чайку, а там и приступать…
С трудом, подтягивая себя рукой по перилам на каждую ступеньку, поднялась на крыльцо. Вспомнила, как взбегала сюда, не замечая этих ступенек. А теперь знала их наперечет. И вторая, пятая пошатываются, и перила некрепкие – если навалиться всем весом, не выдержат.
Чайник, конечно, кипел. Из носика бил плотный столб пара, внутри громко булькало. Так и расплавить недолго… Выключила плитку, сполоснула руки, звякая штырьком умывальника. Заварила свежий чай. И тогда уже села на стул рядом с буфетом и, сев, почувствовала, как устала.
Ничего еще не сделала – и устала.
А сделать предстоит много. Много. Последний день. Завтра в восемь – паром.
Пила сладкий чай, макая в него сухари. Хлеба последние дни не было – пекарню закрыли, оборудование разобрали. Лепешки можно бы спечь, но – ладно… Хорошо хоть, что электричество есть. Глава сельсовета – Ткачук Алексей Михайлович – твердо сказал: свет и фельдшер будут до самого конца. И сдерживает слово…
Так, что ж – надо воду ставить. Кипятку понадобится немало.
Носила ее от колодца в двух пластиковых ведрах на коромысле. Выливала в алюминиевый бак, стоявший на печке. В топке весело трещали, постреливали просохшие полешки. Держала их на растопку – легко щепались, – берегла. А теперь беречь незачем.
Пока вода грелась, решила обойти комнаты.
Дверей внутри избы не было. Раньше и в голову не приходило отгораживаться от остальной семьи дверью. Нет, случалось, ругались молодые с родителями, задвигали проем шкафом, начинали жить отдельно, но это редко. А так – шторки соединил, и всё… Ночами ласкались осторожно, стараясь не разбудить сперва старших, потом – детей. Своим чувствам отдавались редко – лишь оказавшись по-настоящему наедине. Но где тут особо уединиться? В бане разве что, в лесу… Конечно, стесненно жили, несвободно, и когда остались с мужем вдвоем, уже и не нужна стала эта свобода. Наоборот – нужно стало, чтобы рядом были родные люди.
И не виси над деревней тридцать лет острие скорого затопления, может быть, дети после своих техникумов-институтов вернулись бы сюда, ведь раньше столько ехало молодежи. Устраивались, женились, строились. А потом им: «Скоро снесем… водохранилище… переселение…» И побежали, обманутые…
Ирина Викторовна внимательно осматривала комнаты, в который раз проверяла ящики остававшихся шкафов, комодов… Дорого было всё, всё бы забрала, избу бы унесла с собой, поставила на безопасном месте.
Остановилась перед мутным от старости зеркалом, прислоненным к стене. Резная черная рама рассохлась и рассыпалась, лежала плашечками рядом… Как-то в начале лета приезжали в деревню музейщики, ходили по дворам, спрашивали разные вещи из прошлого. «Нам все интересно, – говорили, – утварь, поделки, прялки. Музею обещают дополнительное помещение, территорию. Такой комплекс будет, посвященный истории района, исчезнувшим деревням».
Ирина Викторовна дала тогда какую-то найденную в казёнке мелочь. Осторожно предложила избу: «Сто лет ей. Бревна вечные». Музейщики грустно покачали головами: «Мы бы рады, но крупное нет возможности перевозить. Боремся за стены церкви в Кутае – единственная каменная церковь была… Но нет денег на перенос. А вот за ухват спасибо. Клеймо тут интересное. И за форму для хлеба. Тоже – старина».
А теперь жалела, готова была плакать, что не отдала тогда музейщикам эту раму, этот сундук, с которым ее бабушка переехала к своему мужу…
Мысли и воспоминания извели хуже тяжелой, нудной работы, и Ирина Викторовна махнула рукой, вернулась на кухню. От печки било жаром; прикрывая лицо, она подошла к баку, подняла крышку, потрогала воду. Горячая. Но надо, чтоб закипела. Еще подбросила дровишек.
Ох, опасно здесь долго быть. Как в бане. Распотеет… Надела куртку, переобулась.
Заметно потеплело. Небо было чистое, солнце ползло к его макушке. Не доползет – теперь ему путь все ближе и ближе к горизонту. До конца декабря так, а потом снова станет подниматься, подниматься, путь-дуга будет длиннее и длиннее. Но и сегодня, по всему судя, поднимется выше, может быть, припечет. Хорошо бы. На воздухе и время быстрее идет, а в избе сидеть – сердце от мыслей лопнет. От дум этих горьких.
Пошла в огород. Не знала даже, зачем именно. Как-то по привычке – все лето провела на нем, пропалывая грядки, направляя усы огурцов вверх по веревочкам, обрывая пасынки помидоров, тяпая картошку. Потом собирала урожай. И вот сейчас ноги понесли…
На огороде беспорядок. Торчат сухие будылья подсолнухов, чернеют убитые заморозками ветви помидоров, привязанные к колышкам, ботва картошки валяется по всему полю… Неприятная картина. И Ирина Викторовна взялась бы сейчас сгребать мусор, вывернула бы будылья, отряхнула землю с корней, отвязала бы помидоры, а вязки спрятала на будущий год, колышки унесла под навес. Только вот не будет будущего года. Даже снега здесь она не увидит. Не выйдет однажды утром, не глянет, жмурясь от этой белизны после многих недель серости и унылости, на укрытую землю и не вздохнет: «Ну все, теперь уж до весны».
Теперь не до весны – теперь никогда…
Убеждала себя, что это уже не ее огород, не ее забота, а руки прямо кипели взять грабли и пойти. Ведь не простит земля… Не надо. Через день-два ветхие прясла свалят в кучу, сожгут, огород не родит больше ни морковки, ни картошки, ни помидоров, ни арбузиков, маленьких, но таких сладких, с тоненькой шкуркой… Зарастет земля сорной травой, а потом придет вода, проглотит, утопит.
Представила такое, и словно ударили ее в грудь. Дыхание перехватило, ноги подогнулись. Ирина Викторовна нашла взглядом широкий низкий чурбачок, скорее присела.
На нем, этом чурбачке, в тени навеса для инструментов, рассадных ящиков, колышков она отдыхала много лет подряд. Сидела тогда, оглядывая грядки и парники, делянки капусты, кабачков, решала, за что, чуток отдохнув, надо взяться в первую очередь. Но сейчас не отдыхала, не решала – просто не могла стоять.
И полились горькой и в то же время сладковатой струйкой воспоминания.
Прополка. Полотьё… Сколько лет потрачено на вырывание сорняков! В прямом смысле – лет. Если сложить часы в дни, дни в месяцы – получатся годы. Как начиналось с начала июня, так до сентября.
Сперва выдергивала кончиками пальцев нежную, безобидную еще травку из зарослей такой же нежной морковки; прореживала заодно и саму морковку, посеянную, как всегда, торопливо, как бы между делом – между более важными делами. Потом полола горох, огурцы, чеснок, бобы, помидоры… И вроде бы чисто полола, можно и успокоиться, забыть о пройденном кусочке земли, а глянешь через несколько дней – опять коврик из сорняков, душащих нужное. Наклоняешься – и дерешь, дерешь часами.
В детстве Ирина Викторовна спасалась от одуряющего, отупляющего однообразия, придумывая разные истории. Чаще всего представляла себя хозяйкой леса, которой надо очистить его от вредных, плохих деревьев. И вот она – великанша – очищает. Мураши, бука́ры были зверями, комары, мошкара, слепни – птицами. Иногда вообще отвлекалась мыслями на далекое от этих гряд, этой травы, и руки действовали сами.
Но когда подросла, фантазии уже не спасали. Сначала хотелось побежать на улицу, поиграть, поболтать с подругами, потом о ребятах стала задумываться, и именно на грядках казалось, что вот сейчас, пока она здесь, там, за забором, происходит важное, главное, но без нее.
Ирина Викторовна с детства не любила фильмы про деревню. Там все было как-то не так, не то показывали. У героев этих фильмов находилось столько свободного времени, что не верилось в правдоподобие их жизни. А какая она, правда? Какой Ирина Викторовна видела свою жизнь, жизнь своей семьи, своих соседей? Работа, работа, одно-образная, занимающая все дни от темна до темна работа…
Без долгих ухаживаний вернувшийся из армии Михаил Верхотуров, парень на два года старше ее, сделал предложение, и она согласилась. У Михаила было много братьев и сестер, и, чтобы не теснотиться, они устроились у ее родителей. Через несколько месяцев после свадьбы Ирина Викторовна стала ждать ребенка, родила, потом забеременела снова… Кое-что менялось, конечно, только вот сорняки в огороде оставались прежними, даже росли на прежних местах. Как ни вырывай, ни искореняй, а лебеда вылезала тут, а пырей – вот тут, осот поднимался острыми пиками там же, где год, два, три назад… Чистили-чистили огород, жгли осенью траву с семенами, а весной начиналось все сызнова.
Да, сколько ушло лет на эту борьбу, сколько сил положено на эти двадцать соток, сколько тонн навоза перетаскано из стаек… Зато и ро́стили все, даже то, что считалось совсем южным. И баклажаны, и перец, дыни, арбузы, фасоль, помидоры – «бычье сердце» и «черный принц»…
Помогал, конечно, целлофан. Его натягивали на дуги из скрученной стальной проволоки или согнутых и высушенных так тальниковых прутьев. А снизу корни грел навоз. За три с небольшим месяца все успевало вырасти, окрепнуть, вызреть.
«За три с небольшим месяца, – усмехнулась Ирина Викторовна. – Да не три с половиной, а месяцев семь». Еще в феврале сеяли в ящики, ставили на подоконники.
Когда рассаде становилось тесно, ее разряжали по трем-четырем ящикам. Даже целые стеллажи перед окнами в избе делали, чтобы побольше ящиков помещалось. Каждый светлый пятачок был занят. Как в оранжерее какой-нибудь жили.
К середине мая срывали оттаявший грунт и делали невысокие парники. Зажигали, а потом высаживали рассаду. Натягивали целлофан. Один край целлофана закапывали в землю, другой прижимали камнями, обломками кирпичей, колосниками… И обязательно вскоре били заморозки, а то и снег выпадал. Тогда тащили в огород мешки, одеяла, шубы, брезент, всякие тряпки, какие только попадали под руку. Накрывали целлофан, укутывали парнички.
Почти всегда посадки удавалось отстоять, но, бывало, гибли они или так прихватывало, что потом пол-лета болели. Болели и от того, что их, комнатные растеньица, обжигало солнце, поэтому приходилось прикрывать не только от мороза, но и от горячих лучей, дать время закалиться, привыкнуть.
Числа после десятого июня заморозков не случалось, и целлофан снимали – помидоры уже не могли под ним помещаться.
Нередко и в июне температура падала до плюс трех-пяти, но земля к тому времени прогревалась, и посадки перли, крепли чуть не на глазах, торопясь вырастить до новых холодов свои плоды – потомство. Огурцы, горох лезли вверх по натянутым веревочкам, фасоль стояла зеленой периной, арбузы, словно осьминоги, расползались плетями далеко от гряды, помидоры кустились, и их нужно было щипать и щипать ногтями, чтобы отдавали свои силы не листьям и пасынкам, а завязи…
Да, все буйствовало, наливалось силой, матерело. Казалось, до сентября ничто уже не может угрожать растениям, им даже полив был не очень нужен – корни сосали влагу из глубины.
Но появлялась туча.
Она появлялась неожиданно – посреди жаркого, ясного, парно́го дня. Тугая, красивая и ужасная туча. Вот закрывала солнце и из серо-белой, как снег с золой, превращалась в свинцовую с багровыми прожилками. Земля испуганно притихала; торопливо и молча пролетали в укрытия стайки воробьев; куры, несколько минут назад беззаботно копошившиеся в горячей пыли, убегали в стайку; собаки забивались в будки, сворачивались там калачиком, по-зимнему спрятав морду под хвост. Темнела и вода, и зелень; листья на березах испуганно дрожали, хотя ветра не было – воздух замирал, стекленел.
О проекте
О подписке
Другие проекты