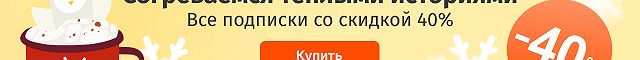
Стоит в тени, мать поджидает, ползучее солнце бередит странные краски в дальней дали. Округа сделалась многоликой, вытянулась сумрачно разными очерками, тенями, что достигают, и поглощают, и растворяются в единой тьме, словно этой истиннотьме всё лишь игра. Ветер низок, словно зверь вынюхивает, незримый, клонит траву. Этот ветер сопровождает все дни ее здесь, в Блэкмаунтин, ребристая камнями дорога по холму, надобная странникам, торговому люду, скотогонам, ведущим стада в селенья у моря, или крестьянам, катавшим в повозках картошку, пока та не стала в земле черная да жидкая. Мужчинам, какие заглядывали поесть, а иногда ночевали, если шли поздно, оставляли, бывало, монетку, но по большей части предлагали мену. Однако последнее время дорога странников приносила мало каких, а те, кто случался, поесть ничего с собой не имели. Чаще всего теперь стук в дверь раскрытая ладонь побирухи.
Она различает материн силуэт, перебирающийся через перевал, быстро заходит в дом. Колли на табуретке, склоняется над желтеющим задачником. На соломе у малышни куча-мала. Старший, Финбар, сучит веревку из волос Брана, пока тот не начинает реветь, и она вскидывает ребенка на плечо. Утешает его, а свечка рядом с Колли мерцает, будто входит в дом нечто незримое, хотя нечто незримое уже вошло, думает она. Уселось и заговорило с мамой на тайном наречии, а с последствиями теперь иметь дело тебе. Шаги, и Грейс оборачивается, видит Сару, та стоит, недопричисленная к святым, меж дверными косяками, бормочет что-то насчет своих ног. Что там у ней в руках.
Хе! Колли бросает задачник и сигает с табуретки.
Сара ему, не вздумай смотреть.
Повертывается спиной, берется за нож и снимает с зайца рукав его шкурки с неспешностью, в какую вживаются мастаки. Бросает тушку в котелок, наливает воды и вешает над огнем. Затем выносит на улицу кувшин, споласкивает руки и остужает водой ступни. Колли делает вид, будто опять взялся за книжку, но втихаря поглядывает за мясом, будто оно того и гляди прыгнет из котелка обратно в шкурку свою да выскочит за дверь. Грейс сидит, трет голову, но Колли не обращает внимания. Ей все еще странна эта оголенность ее черепа. Странно, что волосы теперь торчат клочками, как травянистые кочки. Волосы как еловые иглы. Волосы как терн, обокраденный на ягоды. Думает о том, как заяц смотрелся без головы и освежеванный, как блестел он десенно-розовым. Глянец внутренностей, словно таинство того, что привнесло в них жизнь, светилось откровением. А следом мысль-встряска. На что мама его выменяла? Пристально вглядывается в мать. Говорит, мы собрали немножко горчицы, пока тебя не было. Сварили с крапивой на воде.
Сара садится и подзывает Брана. Распахивает одежу, чтоб свесилась грудь, приставляет к ней ребенка. Ноги все разбила, говорит она. Дай-ка мне вон ту табуретку, ноги положить.
Ребенок припадает к соску, но молока вытянуть не может.
От запаха мяса, какое можно отведать, пухнут языки. Не помнит она, когда последний раз ела мясо. Думает о слюнявом вкусе свинца. О человеке с волчьим лицом, кто баял сказки у очага, оставил им двух подвешенных вяхирей, нашпигованных дробью. Как рассказывал им, что его растили волки, сказал, что лаять научился раньше, чем говорить. Начал тявкать в потолок, скача и суча локтями. Как мама на него шикнула, не булгачь мне малышню. Как глаза у него горели, когда рассказывал свои байки, будто не только правдой они были, но еще и случились с ним самим. Затем притих, весь нахохлился, как зверь, пока выкладывал им байку о своем рождении. Сказал, звать меня Кормак мак Арть[9], и нашел меня в лесу волк. Там меня оставила мать, не хотела она меня. Волки растили меня как своего, так-то. Научили лакать из реки языком. Все я делал, как волк, но погодя они довольны не были, когда я взялся за свое, за человечье, да встал на ноги. Как все смеялись над этим, кроме Колли, тот все время на человека смотрел чудно́. Кормак мак Арть не ваше настоящее имя, сказал. Вы Питер Кроссан. И волки в Ирландии все вымерли[10], так-то, еще до того, как вы народились.
Как же жалко ей, что Колли тогда не заткнулся. Волколак облапил Колли взглядом. Ты осторожней давай, буахала́н[11]. От многих знаний дерево на шее вырастет.
Через два дня после того наведался к ним Боггз.
Пока Сара выгружает мясо в плошку, все взгляды устремлены на стол. Колли расставил локти, глаза пожирают мясо. Сара несет плошку к столу, а Колли отпихивает сестру. Сара толкает плошку по столу к Грейс. Колли тянется влезть в посудину, однако Сара спорой рукой дергает его за ухо. А ну сиди смирно, говорит она.
Обращается к дочери. Это все тебе.
Грейс смаргивает.
Ешь все сама.
Желудок у нее скручивает словно тошнотою. Вопрос и растерянность в глазах, она смотрит на мать, смотрит на Колли, на лица младших. Оглядывает мясо еще раз и отодвигает плошку на середину стола.
Говорит, остальные тоже голодные.
Сара толкает плошку обратно к дочери. Я это мясо тебе добывала.
Я его есть не буду. Вот, Колли, давай лучше ты поешь.
Руку, что бьет из темноты, она не видит, щека ошпарена. Закрывает глаза и смотрит, как догорает огонь. Кричать начинает Сара. Вся в отца своего. Упрямая твоя башка. Голос у нее осекается, а затем дрожит. Знала б ты, что́ я стерпела ради этого. Ешь сейчас же. Все до кусочка. А что не съешь, заберешь с собой.
Соленые слезы во рту сдабривают то, что она ест руками, райский вкус, хоть и не в силах она ему порадоваться. Слышит лишь слова, какие мать сказала, хочет спросить, что это значит, однако в сердце своем знает. Колли умолк, глаза стиснуло гневом. Она ест до тех пор, пока уже больше не может, отпихивает плошку на середину стола.
Тошнит меня. Тошнит меня от этого. Пусть другие чуток поедят.
Возьмешь все, что осталось, с собой. Тебе надо набираться сил.
Сара встает из-за стола, Бран висит у нее на руке. Показывает на Колли и Финбара. Гляди, Грейс. Погляди на них хорошенько. Урожай погублен, сама знаешь. Я все перепробовала, но подаяния никто не дает. Я слишком далеко на сносях. Теперь тебе вывозить. Надо найти работу и работать как мужчина, бо никто ничего, кроме черной работы, девчонке твоих лет не даст. Вернешься, как пору отработаешь, когда карман набьешь. Это мясо тебе для разгона.
Материны слова долетают до нее словно на чужом языке. Мера того, что известно о ее мире, разрастается резко, за пределы того, что ум в силах предвидеть, словно холмы и долины можно выровнять до некоего внезапного и неотменяемого горизонта. Не станет она смотреть матери в глаза, пытается не расплакаться, но все равно плачет. Озирает стол, видит, как малышня таращится на нее, видит, что́ во взгляде у Колли, белки всех глаз, и тех, кто́ за этой белизной, и в чем таится опасность для них, опасность, какой она страшилась, как наконец опасность эта поименована, как позволили ей войти в дом и сесть среди них, осклабившись.
Просыпается сырая от слез, зная, что оплакала свою же смерть. Греза-память о себе самой лежит разбитая после падения, странная свидетельница ее же ухода. Прикасается к влажной своей щеке, и ей легче от того, что проснулась, слушает остальных. Как дыхание каждого мальчика, кажется, сплетается с остальными, словно веревка. Изгиб ступни Колли, теплый у ее голени. Ум его увлечен в некое ночное приключение. Интересно, далеко ли он странствует в своих снах, и она надеется, что он счастлив. Как всякий ум, размышляет она, держится в своей лузге, ночное скольженье куда сокровенней чего угодно, что видишь по ту сторону лица при свете дня.
И тут оно приходит. Скорбь по тому, что переменилось. Скорбь по тому, что есть.
Шепот-дыханье Сары велит ей переодеться. Вскоре она уже не в постели, стоит голая перед матерью, прикрывает рукой малость своих грудей. Сара хватает Грейс за руку и отдергивает прочь. Ты не голая, что ли, на свет народилась? Протягивает холстину, чтоб замотать Грейс грудь, останавливается и говорит, тебе незачем. Вручает ей мужскую рубаху, та проглатывает Грейс. Пахнет камнями, вытащенными из реки. Держит перед собой мужские портки, разглядывает. Рыжеватая ткань залатана на коленках бурым. Думает, у них такой вид, будто на них собака ночевала. С кого они? Влезает в одну штанину, затем во вторую, смотрит сверху вниз – ну и видок, ноги, что вилочка из птичьей грудки, болтаются в двух мешках. Штанины свисают ниже щиколоток. Сара подкатывает их, встает у Грейс за спиной и опоясывает талию шпагатом. Пиджак, от которого смердит мхом, залитым дождем. Фризовое пальто обтрепано у воротника и зияет на локте.
Проще было б нарядиться в мешковину.
Сара шепчет. Вот. Надевай сапоги. И кепку примерь. Братнина тебе мала. Натяни пониже. Прорва пацанят ходит в отцовых обносках.
Грейс стоит и смотрит за дверь, в мир, оставленный беззвездным плоской тьмой. Коже ног странно в этих портках, холод скоблит голову. Сара вручает ей свечку, и свет отпадает от материного лица, и кажется, будто она не она, стоит в маске пред своей же дочерью. Хлопочет вокруг Грейс, вешает суму ей на плечо, закатывает рукава на пиджаке. Затем оглядывается на спящих детей, задерживает долгий взгляд на Грейс и шепчет. Доберись до города, на горной дороге не мешкай. Отыщи Динни Доэрти, выдай себя за брата твоего. Он к нам всегда был добр. По вкусу ему Коллин нрав, так что старайся походить чуток на брата. Завтра Саунь, сиди дома у него и наружу не суйся. На улицах лиха не оберешься.
Она видит воспоминание о том, кто проходил по дороге, ведя за собой обозы пони, и о громовом смехе, что пер из него. Динни Доэрти тот человечек, чей смех из-за горки слыхать.
Сара говорит, иди давай, пока остальные не завозились.
Она оборачивается, отыскивает самую глубину Сариных глаз, остается в ней. Говорит, как собираешься назвать детку?
Сара смыкает веки, а затем снова открывает глаза. Если девочка, назову Касси. Иди уже.
Касси.
Ладонь у нее на плече последний миг матери.
Вдруг она понимает. Что эта старая одежда была отцовой.
Рассветные лучи солнца очерчивают плотную тьму горы. Она выходит в первый свет дня, тропа холодит ступни, ногам странно. Плачет, никак не уймется. Не понять, как все дошло до такого. Ее жизнь просто как брошенный кем-то камень. Бредет тропою вверх по склону и останавливается у точки незримости. Обернувшись, видит, что мать все еще смотрит, вот мазок индиго заходит в дом, исчезает. Рассвет теперь уже разогнал синеющий свет так, что озаряет он каменный дом, что сделался мал, но в нем целая вселенная. Стул на дороге вместе со своей тенью дважды пустой очерк. Она думает о Колли и о том, что́ он дал ей перед тем, как они заснули, ладонь раскрыта в темноте, поэтому видеть ей пришлось пальцами. Его коробок из-под «люциферок». Коробок, опаленный с боков, где он пытался разок поджечь его. Теперь коробок набит ее волосами. Чтоб при тебе осталась твоя сила, пока они не отрастут обратно. А следом шепчет. Возьми меня с собой. Прошу тебя. Возьми. И она ответила. Я ж не знаю, как за тобой смотреть. И как он лежал и дулся.
Не успевает она отвернуться, как видит фигурку Колли, как выбегает он из дому. Сердце у нее рвется ему навстречу, Сара бросается следом за Колли и хватает его за рубашку, пытается втащить обратно. Есть что-то печальное и потешное в этой возне вдали, а затем Колли всем сердцем исторгает вопль, и тот возносится, а потом пропадает в небе, где только звук и есть.
Выжидает весь день так, чтоб из дома не заметили, пока вечер не оторачивает собою мхи. На полусогнутых, тайком возвращается она в тенях вниз по другому склону. Вереск, обметая ей штаны, нашептывает, смотри не попадись. Подкрадывается к дому сзади, слышит, как Сара чихвостит малявок. Обок дома, и тут что она и надеется видеть: Колли курит на молотильном камне. Хочется сказать ему, что все будет хорошо. Что она скоро вернется. Что дел всего на несколько месяцев. Что ему надо быть сильным ради остальных. Нащупывает камешек и бросает ему в ногу, мажет, бросает еще один. Колли соскакивает с камня, как умотанный пес. Что за херня? говорит.
Она шепчет. А ну цыц.
Он делает к ней шаг. Грейс? Это ты?
Сказала же, цыц.
Голос его долетает к ней светозарно, а следом возникает и его лицо, посветлевшее от одного ее вида. Тянет ее к себе в объятия. Ты насовсем вернулась?
Меня все еще нет.
Тогда чего ты здесь делаешь?
Она слышит свои слова так, будто кто-то украл у нее рот.
Ты все еще хочешь со мной?
Все по-прежнему волглое. Где еще и ждать его, как не у ветролома торфяной канавы, невесть когда вырытой и едва-едва просохшей. Ночь спеленывает все воедино. Грейс думает, он не пришел в тот час, когда сказал, что придет. Не пришел, потому что прийти – это надо головы не иметь. Не пришел, потому что мама следила: она-то знает, что у него на уме. Уж такой он весь переполошенный, не утаить. Теперь ты сама по себе, девонька.
Она лежит и слушает биенье всего и вся. Заключительная песнь птиц. Воздух прошит насекомыми. Голос ветра и как говорит он поверх всего остального. Еще ближе голос ее же тела. Звук, с каким грубая голова ее трется о подложенную под нее руку. Дыхание, во рту усеченное. Если зажать уши, звук, похожий на далекий гром, шумный такой, что заглушает стук сердца. А еще ближе то, что под глухим боем сердца, безмолвный крик страха.
Просыпается она вдруг – когда ее находит Колли. От усталости она сердита, хочет его шлепнуть. Ночь почти проскочила.
Говорит, чего ты дома не остался?
Колли, кажется, выживает даже при самом коротком сне, а настроение у него не мрачнеет никогда, однако она видит, что он вдруг переменился.
Говорит, Боггз вернулся, как ты и говорила. Откуда ты знала, что он вернется? Заявился на порог, как раз когда мы спать собирались. Пришлось ждать, пока они все уснут, но тут Бран расплакался, а когда я наконец выбрался, псины шли за мной полдороги вверх по склону. Пришлось то и дело говорить им, чтоб не брехали. Боггз весь взвинченный. Сказал, все пошло к херам. Что какая-то манда в Биннионе забила одну его собаку до смерти. Бухтел и бухтел насчет аренды. Я сидел у огня. Он велел маме покормить его, и она дала ему супа, так он его метнул через всю комнату. Мне все ноги облило, а плошка прямо передо мной упала. До сих пор от супа мокрый. Он ей, это что такое? Горчица? После всего, что я для тебя сделал? Кров над головой тебе дал. Всего-то прошу, чтоб ты меня привечала время от времени. Ты хочешь, чтоб я с тобой обращался как со всяким спальпинем?[12] И тут заметил, что тебя нету. Спросил насчет тебя и рассмеялся, когда мама сказала, что ты ушла работу искать. Сказал, какой с нее прок? Только один, и опять рассмеялся, сам с собою громко так. Мама сказала, что ты обстригла себе волосы и пошла, как сильный парняга. Он ей в ответ, что работать можно сколько влезет, да только нет картохи на сотню миль окрест, какую можно купить или продать, а это значит то, что значит. А она ему, и что ж это значит? А он ей, я тебе скажу что. Это значит, что вернется она быстренько, хвост поджав. Это значит, что все люто и дальше хуже, бо мужики сидят голодные да праздные, и от того делаются злые, потому что так оно устроено. Простая экономика, пока они с этим что-нибудь не поделают, – Корона, в смысле. И тут мама сказала самое странное из всего, что я от нее слыхал. Как на духу говорю. Сказала, пусть, значит, нам ворует.
Идут целый день, глубже в глубину мира, чем когда-либо доводилось им странствовать одним. Колли извергается так, будто истекает рекою слов, шагает с отмашкой, как солдат. Она стала замечать, что на ходу задерживает дыхание. Думает, он это все считает потехой, но у меня самой сердце колотит в грудь, как кулак. Идут они через горные болота нехоженой тропою, место обширно-зримое, почти безлесное, злой ветер брюзжит с востока. По мху скользят тени облаков. Она думает, нет в этом месте никакой памяти. Плюха озера, да одинокое дерево, да небо, что предрекает дождь худшего извода. Садятся под дерево, она разворачивает Колли то, что осталось от мяса. Тот сосет и обгладывает кости, а у ней желудок подает голос, словно из него эдак мимоходом что-то выдрали. Колли вскидывает взгляд, говорит, ты только послушай, до чего безбожно брюхо у меня орет.
Это у меня в животе, идиёт.
Смотрит на нее растерянно. А вот и нет.
А вот и да.
Скажи мне, раз так. Что тощее, как грабли, а с виду жирное, как кот, плешивое, как лысуха, а носит черную шляпу?
Она щиплет его за ребра. Говорит, да закрой ты пасть.
Жалеет, что мать заставила съесть все то, что она съела. Охотка у нее заснула, успела стать глухой болью, с которой можно жить. А теперь разбудили ее – зубы зверя дерут ее изнутри или же нож вворачивает свое острие.
Колли лезет в карман и извлекает глиняную трубку. Эта валялась, говорит. Придется тебе выучиться курить.
Лицо ей ведет от отвращения. А вот и нет.
Ты мужиком быть хочешь или как?
Я могу быть мужиком и без курева.
Нет, не можешь. В любом разе, говорил тебе уже. Табаком можно гасить охоту пожрать.
Он пробует научить ее ходить, как мальчишка. Ты все неправильно делаешь. Держи трубку во рту. Вот так пусть висит. Во, годится. А теперь скажи давай что-нибудь.
Она посасывает трубку. Говорит, табачка не дадите ль, будьте добры?
Иисусе. Что б ни делала, только не разговаривай.
Чем у меня голос негодный?
Чем он годный?
Она поправляет тембр, произносит еще раз. Чем не годный голос-то, ну?
Бросай свою учтивость. Надо, чтоб голос звучал так, будто всегда велишь сделать то-то и то-то, даже когда не велишь. Будто собака тебя слушает и ждет твоих приказов. Мужчины так разговаривают, ей-ей.
Дай-ка табачку, говорит она.
Он хлопает в ладоши. Во. Скажи еще раз.
Она набивает трубку, придавливает большим пальцем, а он подается ближе и подкуривает ей с гнусной ухмылкой.
Ты где «люциферок» добыл? спрашивает она.
Скрал.
О проекте
О подписке
Другие проекты