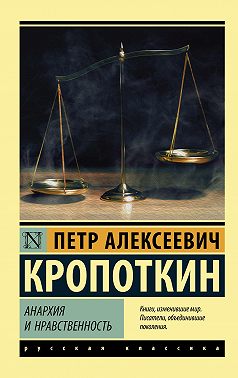На чтение анархистов меня сподвиг политолог Борис Прокудин, который неплохо разбирает русскую классику на предмет политоты. Помимо них он рассказал и о самом цитируемом русском классике Михаиле Александровиче Бакунине, чья биография будет покруче многих романов. А где Бакунин, там и Кропоткин, который по сюжету жизни уступает Михаилу Александровичу, но тоже достаточно насыщенно прожил жизнь. До этого читал про его побег из Петропавловской крепости и труд про Великую Французскую революцию. Снова захотелось обратиться к автору.
Выбор пал на труд "Анархия и нравственность", тем более мы живём в эпоху, когда мораль меняется, возможно, быстрее, чем в прежние времена, и с этой моралью борется реакционная консервативная мораль. Конечно, обзор Петра Алексеевича ограничен 1921 годом, а с тех пор многое поменялось. Случился кризис модернизма, пришёл постмодерн, а сейчас вообще метамодернизм с его инклюзивностью, но было очень любопытно то, как автор разбирал философов прошлого.
Сам автор хочет черпать мораль в природе, ведь есть некая мораль у животных, когда они соблюдают некоторые нормы хотя бы применительно к своему виду. Здесь он мыслит как естественник по роду деятельности, да и в целом ссылается на Чарльза Дарвина. Не знаю, насколько эти данные актуальны на наше время, но про зачатки морали у животных встречал рассказы о некоторых зачатках морали у Александра Соколова и у Станислава Дробышевского, которые не приравнивают человеческую мораль к животной, но признают некоторые зачатки разума, которые отличаются количественно по размеру мозга и развитости отделов.
От естественно-научного, возможно, спорного экскурса он переходит к разбору мыслителей прошлого. Он признаёт плюсы учений Христа и Будды, но считает, что они утратили свою прежнюю силу с тех пор, когда были взяты государством под свою защиту и приобрели реакционный характер, подменяя изначальную мораль. Например, ставит в вину Фоме Аквинскому и Августину Блаженному реакционность. Затрагивает и критикует позиции античных мыслителей: софистов, Сократа, Платона, Аристотеля, их последователей, эпикурейцев, стоиков. Он говорит о революционности их взглядов и отходе от Абсолюта (богов) и методологии определения морали из метафизических суждений, использованию их в реакционных идеологиях Средневековья.
Очень много разборов философов Нового времени самых разных. Больше всего понравились разборы Канта и Гегеля. С Кантом у меня отношения сложные. Его «Критику чистого разума» освоил где-то наполовину накануне поездки в Калининград, чтобы поклониться, а потом не стал дочитывать. Про его категорический императив помню. Всё-таки база. Но как хорошо по нему прошёлся Пётр Алексеевич.
спойлерСовременная критика, начиная с Шопенгауэра, показала, однако, что Кант ошибался. Он не доказал, почему человек обязан подчиняться его «велению», его императиву. Причём любопытно то, что из самих рассуждений Канта выходит, что единственное основание, почему его «веление» может претендовать на всеобщее признание, состоит в его общественной полезности. А между тем некоторые из лучших страниц Канта именно те, где он доказывает, что ни в каком случае соображения о полезности не должны считаться основой нравственности. В сущности, он написал прекрасное восхваление чувства долга, но он не нашёл для этого чувства никакого другого основания, кроме внутренней совести человека и его желания сохранить гармонию между его умственными понятиями и его действиями.свернуть
Вот теперь можно и перечитать, а то Кант по моей версии — одна из самых сложных книг. Прошёлся он и по Гегелю. Я бесконечно уважаю Гегеля за создание диалектической логики, позволяющей выйти за границы формальной логики, но ещё в «Философии права» Гегеля меня терзали смутные сомнения, что он иногда подключает интуицию для выведения своих суждений. Об этом как раз говорит Пётр Алексеевич.
спойлерКак справедливо заметил Эйкен, в философии Гегеля мы имеем строго законченную систему, построенную на законах логики, но вместе с тем в философии Гегеля большое место занимает и интуиция. Однако если мы спросим себя: вытекает ли интуиция Гегеля из всей его философии, то на этот вопрос нам придётся ответить отрицательно.свернуть
Не случайно современные правые и ультраправые мыслители вроде Александра Гельевича Дугина нередко используют его для обоснования реакционных идей, при этом игнорируя его измышления относительно неудобных для них фактов.
Забавно, что недавно прочитанного Монтескьё он отнёс к сложным, хотя и похвалил его. А мне, наоборот, показалось, что «Дробышевский». Автор потешил моё самолюбие. Ну или сейчас Монтескьё смотрится актуальнее и современнее других. Определённо придётся теперь знакомиться с Марком Гюйо, хотя как поискал по фамилии и датам жизни, философа зовут Жан Мари Гюйо. Сложно оценить. Если с остальными, хотя бы вскользь знаком, то с этим автором сложнее.
В конце автор немного говорит об анархизме и изменении морали как свидетельстве о революционности. Сложно согласиться с этим утверждением на фоне современной инклюзивной морали, которая используется в реакционных целях, чтобы отвлечь от социальных проблем, равно как в тех же целях используется и консервативная мораль, но времена меняются. В любом случае, хороший обзор по истории методологии формирования морали. Рекомендовать всем вряд ли можно, но людям, заинтересованным в философии, будет полезно прочитать.