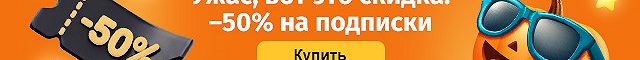
Перемена одежд
Могучее дерево высится по ту сторону улицы, и тени от его ветвей чётко рисуются сейчас в глубине комнаты напротив окна, на бежевой стене. Одна ветвь похожа на протянутую руку с ладонью ложечкой. Солнце вот-вот исчезнет за краем саванны, и в эти минуты оно смотрит сразу во все окна отеля. Светлая стена вся покрыта сеткой прозрачных трещинок, и они незаметно передвигаются вверх. Вот тонкая ветвь берёт в свою ладонь круглые настенные часы, потом переходит на циферблат и держит некоторое время цифру 1Л.
Часы вроде старинные. Но я знаю, что в них батарейка. Сделаны под антикварные, с какого-то образца, а те оригинальные были, может быть, не настенными, но высокими напольными, с блестящим маятником, с хриплым шипением и боем. Отбивали торжественно часы. Вот они били семь раз, и тогда через залу проходил старый слуга, одетый во что-то странное, в подобие ливреи. Он подходил к высоким белым дверям, чуть приоткрывал одну половину и, не заглядывая в кабинет, тихо говорил:
– Ваше превосходительство, чай подан. Прикажете свечи поставить?
– Поставь, дружок. И Наталью Фёдоровну…
– Пригласил-с.
– Ну и я сейчас.
Я представляю себе это здесь, в душной Африке, и мной овладевает сложное чувство, какое-то глубокое волнение, которое просится стать видимым, услышанным, на вольный воздух, к людям. Петь я не умею, рисовать тоже, а слова… Они почему-то не находятся. Те, что приходят на ум, кажутся фальшивыми. Но мне представился – не мелодией, не картиной, а в какой-то дымке, и сразу сжал сердце – господский дом в Тульской губернии, дорога к нему занесена снегом, морозно, и небо на западе ярко-оранжевое. А тонкая полоска над лесом, в которую погружается неслепящее белое солнце, пепельно-серая, и в двух окнах невысокого дома с деревянными колоннами появился свет. И мне дышать становится трудно, потому что всё это: зима, и те люди, и их разговоры – касается меня.
Конечно не потому, что я видел картинки и читал о похожем. О таком вот тихом доме, в котором потрескивают рассыхающиеся полы, а за окнами ночью свистит ветер, а солнечным утром на дворе под мягкими валенками громко скрипит снег. Читал? Наверняка. Но это не вычитано. Я просто знаю, примерно как знают язык, не уча его, а возникнув в нём и им дыша, весь этот быт и уклад изнутри. И куда бы ни занесла судьба, я живу ещё и там. Меня греет и утешает этот ясный просторный январь, я вижу грустную барышню в кофте у камина, её отца в тёплом халате с трубкой, блестящий самоварчик, и кувшин со сливками на столе, и корзинку с сухарями, и блюдце с колотым сахаром. И ещё я знаю хозяйку дома, которая сейчас не с ними в гостиной, но лежит у себя наверху, в спальне. Дремлет и кротко угасает. Глядит долгим вечером сквозь разрисованное инеем стекло на синие сумерки, вспоминает молодость, переполнявшее её тогда, давно уже, предчувствие бесконечной жизни впереди и сладкое ожидание любви.
Я припоминаю всё же и книгу. Она стояла на нижней полке левого шкафа: тёмно-зелёный вытертый корешок с двумя потускневшими золотыми полосами. Мемуары некоего Неклюдова, дипломата царской России. Впрочем, я могу ошибаться. Неклюдов писал уже в эмиграции, и его мемуары я читал позже, в библиотеке, а те, что на нашей полке, – это более ранние записки, начала века. Кого-то другого. А вообще-то всё это неважно. Вовсе и совершенно не принципиально. Я, например, точно помню, как утром играло солнце в красных и жёлтых листьях 1 сентября (осень наступила рано), когда я счастливый спешил в неизвестный новый мир, в институт, в который я – голова кружилась от счастья! – поступил. А какой день недели тогда был, и сколько именно было времени на часах, и какие на ногах у меня ботинки… Ну какое это имеет сегодня значение!
В наших комнатках, в узеньком переулке моего родного большого города, очень далёкого в эту минуту, когда я смотрю на стрелку часов на стене, книги стояли плотными рядами в шкафах за стеклом и на открытых полках: нарядные и внушительные, в коже и позументах, но и совсем бедно одетые, истрёпанные. И те, которые бедные, в них, мне казалось, была одна только суть, одна сдержанная и серьёзная речь в простом платье. А ещё книги лежали одна на одной на подоконниках, и верхняя быстро покрывалась пылью, и бабушка удивлялась – недавно же протирала; и ещё они спали в высоких стопах под столом, перевязанные верёвками.
Однажды из тесной квартиры мы переехали с книгами, шкафами и кроватями в другую, просторнее, мне исполнилось тогда десять лет. Уехали на новую неуютную землю, на необжитую окраину. Собирались-собирались – и вдруг пасмурным утром два грузчика вынесли почти всю мебель, а мы сняли со стен фотографии и несколько картин и оставили светлые квадраты на обоях. Сняли ещё занавески с карнизов, и открылись оголённые окна. Как будто внезапно их выставили средь бела дня на позор. И пока мы ещё несколько дней заходили в дом, окна смотрели на нас, мне казалось, изумлённо и скорбно: неужели можно вот так жестоко всё бросить? Со всем родным порвать? Я чувствовал вину перед ними. И перед кафельной печкой, нас согревавшей в дождливую осень, и перед вытертым до белизны паркетом.
А многие книги, которые поблёскивали, рыжели и зеленели на своих неизменных местах на полках, разметало время, переезды, разрешения почитать без строгого учёта… Ах, какой маленькой на самом деле оказалась наша комната. Просто удивительно, сколько в ней всего могло помещаться! Словно она была, пока мы жили в ней, безграничная как память, которой ежедневно пользуются. И вот я пытаюсь извлечь из запечатлевшегося прошлого случаи и разговоры тех дней, когда мы спокойно жили здесь и никуда ещё не собирались. Мне лет пять, сейчас меня повезут на троллейбусе в детский сад, и я сижу в бархатном вельветовом пиджачке и покорно жду. В груди страх и тоска.
На стене прямоугольный ящичек с закруглёнными углами – радио. Женщина-диктор рассказывает о какой-то встрече партии и правителей, которая состоялась вчера в Кремле. «А где она?» – спрашиваю я. «Кто?» – не понимает бабушка. «Эта тётя». – «Какая тётя?» – «Которая сейчас говорит», – и я показываю на приёмник. «А! – бабушка смеётся. – Не знаю. Она тебе не тётя, это диктор. Наверно, на Новокузнецкой, или на Качалова, в звукозаписи. Она сейчас сидит в маленькой комнатке у микрофона и читает, что ей написали, а мы её сейчас слышим». – «Она так далеко?» – я не могу поверить. «Ну и что! – недоумевает бабушка. – Она говорит, и её слова плывут по особенному воздуху, и так вот она сейчас пришла к нам сюда и разговаривает, но видеть её нельзя, она невидима». – «А почему она к нам пришла?» – «Она ко всем приходит, она сейчас везде, и даже если кто-то сейчас слушает радио в детском саду, то и там он этого диктора услышит».
Больше я не расспрашивал. Я понял, воображение мне это как-то позволило: если она, эта диктор, которую я почему-то тоже боюсь, как воспитательницу в саду, разговаривает из своего дома везде и со всеми, и с теми прохожими, которые идут по улице, и с ребятами в школе, и со взрослыми в министерстве, куда мама ходит на работу, – только поверни круглую штучку, и она заговорит, – то это потому, что всюду плывёт этот особенный воздух, прозрачный и неслышный, и попадается в такие, как у нас, ящички на стене. Это понятно, хотя и не очень. Но почему во всех радио и всюду одна и та же диктор, этого объяснить я себе не мог. Увидеть и понять, как же это далёкое и близкое, долгое и мгновенное может уместиться всё сразу в одном ящичке, – ребёнку невозможно.
Из своего нынешнего опыта я могу предположить, что если мысль, облечённая в голос, находится одновременно везде, и ранним утром звучит на экваторе, в кают-компании корабля в Атлантическом океане, и она же, с обратной стороны планеты, в то же самое мгновение ночью звенит в палатке альпиниста в горах Тибета, то всё видимое для неё – и океанские волны, и снега в горах, и сумерки, и рассветы – только воздушный тающий рисунок, фон, перемена одежд. Эта мысль одновременно находится везде. Для нас она пространна, огромна и длительна. Но не для бесконечности, по отношению к которой она вполне обозрима и нетяжела, умещается крошкой в ладони. И вот получается, что вся долгая и неохватная жизнь вырастает из одного зёрнышка, как будто из одной точки. Но если взглянуть с большой высоты, то вся эта ширь и глубина в эту точку, в зерно, или в замысел – легко и стремительно сворачивается. А развёрнута она и подробно объяснена для того, чтобы мы в ней постепенно вырастали и её узнавали.
А барышня, зовут её Нина, пытается читать, но смотрит долго на страницу и не переворачивает её. Пригубила остывшую чашку, поднялась, поцеловала отца и сказала, что пройдёт к маме. Отец смотрел ей вслед с болью: он мучается сердцем, и ничего ни для кого не может сделать. Её друг на Кавказе, и писем нет давно, в доме тихо и печально, а супруга слабеет с каждым днём. Нина прошла к матери, и та вдруг, увидев дочь и словно очнувшись, заговорила быстро, спешила сообщить что-то радостное и важное: ей виделось, отчётливо, наяву, что Дмитрий неожиданно приехал к ним.
– Мама, зачем вы… Ну хорошо, дай Бог!
А к ночи за окнами залился колокольчик, и захрипели кони, и кто-то деликатно, но размеренно и неробко застучал в двери.
Да, действительно, Дмитрий тогда прилетел к ночи, гнал лошадей от самой Тулы. Из бедных лошадок пар валил, как из труб, наверно, так мальчику рассказывали потом – их распрягли и повели на конюшню. Нине чуть не стало плохо. С этого возвращения – первые страницы воспоминаний – начинается рассказ внука о своих деде и бабке, Нине Ивановне и Дмитрии Семёновиче, и об их детях. Автор пишет о своём отце и о трёх своих тётушках, и о своей матери, о детстве в имении, и об учёбе в Москве. Прорисовывает линии, которые, как голубые вены души, изнутри питают сердце и объясняют мир и побуждают видеть и чувствовать жизнь неповторимо, как только этот «наследник всех своих родных» может.
Сосед мой по номеру (скорее это я – его, он глава нашей делегации из двух человек), сидя в кресле в одних шортах – жарко, а кондиционер он не любит, – в поте лица, часто вытирая руки полотенцем, пишет художественно-публицистический отчёт о начавшейся африканской поездке для «Литгазеты». Вот об этой самой командировке в Мали, где мы в данную минуту находимся, и о столице государства, о городе Бамако. Прилетели позавчера, а вчера шеф уже сел покрывать свой широкий блокнот ровными, как из тюбика выползающими строчками. Я посматриваю на этот процесс шелкопрядения с любопытством. Откуда он всё знает? Вот теперь всё о Мали. Вдруг мы завтра заблудимся в саванне, если ещё раз туда поедем? Да мало ли что может случиться! Нет, пишет.
Меня вчера возили на экскурсию в саванну, а начальник был в это время у нашего посла. Ровная среднеафриканская степь, почва пыльно-каменистая, и на ней растут деревья, а некоторые очень редкие – толстые вековые баобабы. Никто не может сказать, сколько им лет, сто пятьдесят, сто семьдесят, иному и больше. Самые старые, ещё не сухие, но покрытые листьями вверху, зияют дуплами величиной с хорошую комнатку. Главная же достопримечательность – громадные, отполированные ветрами и дождями камни, которые лежат друг на друге как исполинские игрушки. Как будто исполин какой-то, забавляясь, поставил их друг на друга, и они, многотонные, держатся на высоте пяти или более метров, опираясь на нижние глыбы какими-нибудь двумя точками. И никакой ветер их не колеблет. Они составляют арки и пирамиды, самые небольшие камешки не меньше легковой машины, а есть и внушительней, с избушку или вертолёт. И вот о происхождении этого маленького чуда никто ничего убедительного не сообщает. Мой гид, малиец Эме, историк с европейским образованием, позволив мне выразить удивление и восторг, спросил:
– Ну что, красиво?
Я ответил, что просто нет слов.
– У вас ведь, на севере, такого нет?
– У нас? Конечно, нет. Таких вот камней нет, только если где-нибудь в Каракумах? Но… – я вспомнил отечество и на секунду задумался.
– Да? – Эме улыбался.
– Россия, – сказал я, – вы же знаете, она такая большая, что у нас много неожиданного, чего мы сами никогда не видели и не увидим.
– И даже такие камни?
О проекте
О подписке
Другие проекты