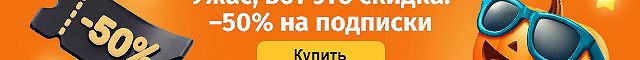
Она достала чайные принадлежности, тарелку маленьких пирожных с кремом, поставила чайник и спросила, какой чай я предпочитаю.
– «Лапсанг», – отозвался я. – Мне нравится, что он с дымком, как бы подкопченный.
К этому моменту я уже восстановил голос и обрел уверенность в себе, и мы мило болтали, попивая наш чай «с дымком».
Пробыв полчаса, я ушел. Брат с женой ожидали меня снаружи.
– Ну как, Оливер? – спросил Дэвид.
– Потрясающе, – ответил я, стряхивая крошки с бороды.
Ко времени, когда мне исполнилось четырнадцать, все уже знали, что я должен стать врачом. Врачами были отец, мать и мои старшие братья.
Я же не был уверен, хочу ли продолжить семейную традицию. Не слишком привлекала меня и перспектива стать химиком – теперь химия далеко ушла от популярной в восемнадцатом и девятнадцатом веках неорганической химии, которую я так любил. Но в четырнадцать-пятнадцать лет, воодушевленный примером школьного учителя биологии, а также романом Стейнбека «Консервный ряд», я решил, что хочу стать специалистом по биологии моря.
Когда же я выиграл стипендию в Оксфорде, передо мной встал выбор: сконцентрироваться на зоологии или пойти на подготовительный факультет при медицинском колледже и заняться анатомией, биохимией и физиологией. Больше всего меня привлекала физиология восприятия: каким образом мы видим и различаем цвет, глубину, движение. Как мы вообще все различаем и узнаем? Каким образом происходит осмысленная визуализация мира? Эти вопросы меня интересовали с детства, и пришел я к ним благодаря терзавшей меня время от времени офтальмической мигрени, потому что, помимо сверкающих зигзагообразных полос, которые я видел во время приступа, развитие ауры сопровождалось утратой восприятия цвета, глубины и движения, а иногда – полной неспособностью распознавать внешние объекты. Образ мира, лежащего перед моими глазами, мог быть разрушен, подвергнут деконструкции, что одновременно пугало меня и восхищало, а затем восстановлен и реконструирован – и все это в течение нескольких минут.
Моя маленькая домашняя химическая лаборатория одновременно стала и фотолабораторией, а особой любовью у меня пользовались цветная фотография и стереофотография. Занимаясь ими, я продолжал размышлять над тем, как мозг конструирует образ цвета и глубины. Мне нравилась биология моря – так же, как когда-то нравилась химия, – но теперь я хотел понять, как работает человеческий мозг.
У меня никогда не было особой уверенности в своих интеллектуальных способностях, хотя меня и считали сообразительным. Как и оба моих школьных приятеля, Джонатан Миллер и Эрик Корн, я был одержим наукой и литературой. Я благоговел перед интеллектом Джонатана и Эрика и совсем не думал, что они станут со мной водиться, но оказалось, что все мы получили стипендию от университета. Потом у меня начались трудности.
В Оксфорде при поступлении ты должен сдать «предварительный» экзамен; для меня это была формальность, поскольку стипендия у меня уже имелась. Но я провалил экзамен. Сделал вторую попытку, и вновь неудачно. И в третий раз, отправившись сдавать, я потерпел поражение. Тогда-то мистер Джонс, проректор, отвел меня в сторону и спросил:
– Сакс! Вы же подготовили отличные вступительные работы. Почему вы раз за разом проваливаете этот дурацкий экзамен?
Вопрос остался без ответа.
– Ну что же, – сказал проректор. – Даем вам последний шанс.
Я пошел на экзамен в четвертый раз, и наконец все у меня получилось.
В колледже Святого Павла, где я до этого учился вместе с Эриком и Джонатаном, мы получали удовольствие от преподававшейся там неназойливой смеси гуманитарных и точных наук. Я был президентом литературного общества и одновременно секретарем ботанического клуба. Подобные комбинации были гораздо менее осуществимы в Оксфорде, где факультет анатомии, научные лаборатории и библиотека Рэдклиффа находились поблизости друг от друга, на Саут-Парк-роуд, но довольно далеко от университетских лекционных аудиторий и колледжей, что было причиной формирования и физической, и социальной дистанции между теми из нас, кто занимался точными науками или учился на подготовительных отделениях, и остальным университетом.
Особенно остро я это чувствовал во время своего первого семестра в Оксфорде. Нам было дано задание написать эссе и передать их нашим наставникам, что предполагало долгие часы, проведенные в научной библиотеке Рэдклиффа. Там мы читали научные труды, листали газеты, выбирая то, что казалось нам наиболее важным, чтобы потом представить результаты наших исследований в интересной и оригинальной форме. Я получал огромное удовольствие от чтения работ по нейрофизиологии – передо мной открывалась совершенно новая область знания, но в то же время я все больше понимал, что из моей жизни уходит многое ценное. Я почти ничего не читал за пределами научной литературы, кроме «Биографических очерков» Мейнарда Кейнса, и очень хотел написать собственные «Биографические очерки», правда, с клиническим уклоном: мои эссе должны были представить людей, наделенных либо необычными слабостями, либо необычной силой, и показать, как эти качества влияют на их жизнь. То, о чем я думал, могло стать серией клинических биографий, неким собранием клинических исследований, клинических случаев.
Моим первым (и, в этом случае, единственным) объектом стал Теодор Хук, на чье имя я набрел, читая биографию Сиднея Смита, великого викторианского мыслителя. Хук, живший лет за двадцать до Смита, также был признанным мыслителем и мастером диалога, но, кроме этого, был он и непревзойденным по силе музыкального дара сочинителем. Известно, что Хук сочинил более пятисот опер – сидя за фортепиано, импровизируя и исполняя все без исключения партии. Это были цветы быстротекущего мгновения – удивительные, прекрасные и эфемерные; Хук импровизировал на месте, никогда не повторяя своих произведений и не записывая сочиненного, – вскоре они забывались, а затем и окончательно были забыты. Я был очарован описанием этого гения импровизации! Какой мозг мог позволить себе такие чудеса?
Я принялся читать все, что было написано о Хуке, а также книги, принадлежавшие его перу. Эти творения показались мне скучными и вымученными – полный контраст с тем, что было написано о его быстрых, как молнии, удивительно изобретательных импровизациях. Я много думал о Хуке и к концу осеннего семестра написал о нем очерк на шесть полноформатных листов убористой печатью, объемом в четыре или пять тысяч слов.
Недавно я нашел очерк в ящике, где лежали и другие мои ранние работы. Читая текст, я был поражен уверенностью изложения, эрудицией, возвышенностью стиля и некоторой претенциозностью. Это совсем не было похоже на мой стиль письма. Может быть, я переписал куски чужих текстов из полудюжины источников, а потом аккуратно соединил их? Или все-таки это был мой текст, исполненный стилем истинного профессионала, которым я тогда уже стал, несмотря на юный возраст?
Но все-таки о Хуке я писал ради развлечения. Основные мои работы касались физиологии, и я должен был еженедельно подавать их своему наставнику. Когда я занялся вопросами, связанными со слухом, я был так воодушевлен, так много читал и думал, что у меня совсем не осталось времени на написание работы. Но в назначенный день я появился перед наставником с блокнотом и начал импровизировать текст, притворяясь, будто читаю его. В одном месте Картер (доктор С. У. Картер, мой наставник в Королевском колледже) прервал меня.
– Я потерял мысль, – сказал он. – Прочтите, пожалуйста, снова.
Немного нервничая, я попытался повторить несколько последних предложений. Картер изобразил недоумение.
– Позвольте взглянуть, – попросил он и протянул руку.
Я передал пустой блокнот.
– Замечательно, Сакс, – проговорил Картер. – Превосходно. Но в будущем потрудитесь записывать свои размышления.
В Оксфорде я имел доступ не только в научную библиотеку Рэдклиффа, но и в Бодлианскую библиотеку – замечательное собрание книг и рукописей, история которого восходит к 1602 году. Именно в ней я набрел на ныне забытые труды Хука. Никакая другая библиотека, за исключением Библиотеки Британского музея, не могла предоставить мне нужные материалы, а царившая там умиротворенная атмосфера создавала замечательные условия для того, кто собирался что-либо писать.
Но самой любимой моей библиотекой в Оксфорде была библиотека Королевского колледжа. Великолепное здание библиотеки, как нам сказали, было спроектировано Кристофером Реном, а под ним, в подземных лабиринтах, где книжные полки соседствовали с трубами отопления, располагались библиотечные фонды.
Держать в руках древние книги, так называемые инкунабулы, было связано для меня с совершенно новыми переживаниями. Особенной любовью у меня пользовались богато иллюстрированная книга Конрада Геснера «Истории животных» (1551) – туда были включены знаменитые рисунки носорога, принадлежавшие Альбрехту Дюреру, – и четырехтомник Луи Агассиса, посвященный ископаемым рыбам. В книгохранилище я видел все первые издания книг Дарвина, и там же я влюбился в работы сэра Томаса Брауна – в его «Вероисповедание врачевателей», «Гидриотафию, или Погребение в урнах» и «Сад Кира» («Квинкунксиальный квадрат»). Сколько абсурдного было в этих книгах! Но какой стиль! А если временами вам начинало казаться избыточным высокопарное красноречие сэра Брауна, вы могли быстро переключиться на лапидарный стиль и энергичный напор прозы доктора Свифта, чьи книги также находились здесь и, естественно, в своих первых изданиях. Дома я воспитывался на любимых родителями авторах девятнадцатого века; здесь же, в катакомбах библиотеки Королевского колледжа, я приобщился к литературе веков семнадцатого и восемнадцатого – к Джонсону, Юму, Гиббону и Поупу. Все эти книги находились в свободном доступе – не в каком-нибудь особом закрытом хранилище, а стояли прямо на полках, – как стояли, полагал я, с того самого момента, когда вышли из печати. Именно в подвалах Королевского колледжа пустили во мне ростки чувство истории и чувство родного языка.
Моя мать, хирург и блестящий знаток анатомии, смирилась с тем, что я был слишком неуклюж, чтобы пойти по ее стопам в хирургии, но надеялась, что в Оксфорде я достигну высот хотя бы в анатомии. Мы препарировали трупы, слушали лекции и через два года должны были сдать итоговый экзамен. Когда результаты были обнародованы, я обнаружил, что оказался в списке вторым от хвоста. Опасаясь бурной реакции матери, я решил, что пара глотков спиртного мне не помешает. Дойдя до своего любимого паба «Белая лошадь» на Брод-стрит, я залил в себя четыре или пять пинт сидра – гораздо более крепкого, чем пиво, и гораздо более дешевого.
Когда в изрядном подпитии я вышел из «Белой лошади», в голову мне пришла безумная и довольно наглая идея. Свое провальное выступление на итоговом экзамене по анатомии я заглажу тем, что сдам экзамен на престижную университетскую награду – приз Теодора Уильямса по отделению анатомии человека. Экзамен уже начался, но я, безумно храбрый от выпитого, проник в экзаменационный зал и, усевшись за стол, уткнулся в экзаменационное задание.
Ответить нужно было на семь вопросов. Я ухватился за один из них («Подразумевают ли структурные различия также и различия функциональные?») и без остановки писал на эту тему в течение двух часов, мобилизовав в ответе все сведения из зоологии и ботаники, которые у меня имелись. И ушел за час до окончания экзамена, проигнорировав оставшиеся шесть вопросов.
В конце недели результаты появились в «Таймс». Награду выиграл Оливер Сакс. Ошеломлены были все: как мог человек, с трудом сдавший экзамен по анатомии, получить приз Теодора Уильямса? Я же не очень удивился: повторилось то, правда с точностью до наоборот, что случилось на «предварительных» экзаменах в Оксфорд. Я отличаюсь поразительной тупостью на экзаменах, где нужно дать либо положительный, либо отрицательный ответ, когда же требуется написать эссе, я по-настоящему расправляю крылья.
Победа принесла мне пятьдесят фунтов. Столько денег сразу у меня никогда не было. Но на этот раз я пошел не в «Белую лошадь», а в книжный магазин «Блэквелл», в доме рядом с пабом, и за сорок четыре фунта купил двенадцать томов Оксфордского словаря, который был для меня самой желанной книгой в мире. Когда я поступил на медицинское отделение, я прочитал его от корки до корки, но и сейчас время от времени я люблю взять какой-нибудь из томов словаря и почитать на сон грядущий.
Ближайшим другом моим в Оксфорде был Кэлман Коэн, стипендиат фонда Сесиля Родса, молодой специалист по математической логике. До этого мне не приходилось иметь дело с людьми, чьей специальностью была логика; теперь же, общаясь с Кэлманом, я неизменно испытывал чувство восхищения степенью интеллектуальной концентрации, которую тот демонстрировал. Он был способен сосредоточиваться на проблеме и безостановочно обдумывать ее в течение целой недели; в нем кипела страсть к мышлению, а сам акт мышления – вне зависимости от предмета мысли – возбуждал его до чрезвычайности.
Хотя мы сильно отличались друг от друга, ладили мы хорошо. Кэлмана привлекал мой временами избыточно ассоциативный способ мышления – так же, как меня привлекала дисциплина его ума. Он познакомил меня с Гилбертом и Брауэром, гигантами математической логики, а я его – с Дарвином и великими натуралистами девятнадцатого века.
Мы считаем, что средством и целью науки является открытие, а целью и средством искусств – изобретение. Но существует и «третий мир», мир математики, где первое мистическим образом сосуществует со вторым. Например, возьмем простые числа – они что, существуют в некоем вневременном платоническом пространстве или, как полагал Аристотель, были когда-то изобретены? А как относиться к иррациональным числам, например числу π? Или к таким воображаемым числам, как квадратный корень от числа 2? Подобные вопросы время от времени беспокоили меня, но я не очень расстраивался, когда осознавал, что ответов мне не найти. Для Кэлмана же подобные проблемы были вопросом жизни и смерти. Он надеялся, что когда-нибудь сможет примирить исповедуемый Брауэром платоновский интуитивизм с верой Гилберта в аристотелевский формальный метод – столь разные, но в то же время комплементарные точки зрения на реалии математики.
Когда я рассказал о Кэле родителям, то они первым делом, узнав, насколько далеко моего друга занесло от дома, пригласили его на уикенд в наш лондонский дом, чтобы он отдохнул в уютной обстановке и отведал домашней еды. Он очень понравился родителям, но мать была крайне возмущена, когда на следующее утро обнаружила, что одна из простыней, на которых спал Кэл, была вся в чернилах – он исписал ее математическими формулами. Когда я объяснил матери, что Кэл – гений и что он использовал нашу простыню для разработки новой теории в математической логике (здесь я немного преувеличивал), ее возмущение сменилось чувством благоговения, и она настояла, чтобы никто не посмел ни стереть формулы, ни выстирать простыню – на тот случай, если в следующий приезд Кэлман пожелает вернуться к своим гениальным заметкам.
До этого Кэлман учился в Рид-колледже в Орегоне, который, как он поведал, был славен своими особо одаренными студентами; он же достиг столь выдающихся успехов, что равных ему в колледже не было много лет. Кэлман сказал об этом так просто и таким скучным тоном, словно говорил о погоде. Это были просто факты – и ничего более. Похоже, он считал меня человеком способным, несмотря на явную неорганизованность и алогичность моего мышления. Кэл полагал, что способные люди обязаны жениться на таких же способных людях и производить на свет способных детей, и с этой мыслю в голове он устроил мне встречу с некой мисс Исаак из Америки, которая также была стипендиаткой фонда Родса. Рэл Джин была спокойной, скромной девушкой, но (как предупредил меня Кэлман) острой, как алмаз, и на протяжении обеда мы только и делали, что обменивались абстракциями. Расстались мы дружески, но потом уж не встречались, да и Кэлман более не пытался найти мне подружку.
Весной 1952 года, во время наших первых долгих каникул, мы с Кэлманом отправились в путешествие автостопом через Францию в Германию. Спали мы в отелях для молодежи и где-то подцепили вшей. Пришлось побрить головы. Один из наших однокашников по Королевскому колледжу, элегантный Герхард Синцхеймер, который проводил летние каникулы с родителями в их доме у озера Титизее в Шварцвальде, пригласил нас погостить. Когда мы с Кэлманом явились, грязные, с бритыми головами и с историей о том, как мы подхватили паразитов, родители Синцхеймера сразу отправили нас в ванную, а одежду подвергли химической обработке. Проведя несколько мучительных дней с изысканными Синцхеймерами, мы двинули в Вену (которая тогда была в значительной степени Веной «Третьего человека» – фильма Кэрола Рида) и там отведали всех известных человечеству спиртных напитков.
Хотя я и не готовился к получению академической степени по психологии, иногда я ходил на лекции по этому предмету. На отделении психологии я видел Дж. Дж. Гибсона, смелого теоретика и экспериментатора в сфере визуальной психологии, который приехал в Оксфорд в творческий отпуск из Корнелла. Гибсон только что выпустил свою первую книгу, «Восприятие видимого мира», и был рад позволить нам поэкспериментировать со специальными очками (на один глаз и на два сразу), которые переворачивали картинку, которую мы обычно видим. Нет ничего более странного, чем видеть мир поставленным с ног на голову; и тем не менее через несколько дней мозг адаптируется к этому способу видения и переориентирует картинку видимого мира (которая вновь встанет «на голову», когда экспериментатор снимет очки).
Меня увлекали и визуальные иллюзии; они доказывали, насколько бессильны интеллект, интуиция и даже здравый смысл перед нарушениями восприятия. Из опытов с очками Гибсона мне было ясно, что сознание хорошо справляется с оптическими искажениями. Но оказалось, что мозг совершенно неспособен упорядочить восприятие, когда имеет дело с визуальными иллюзиями.
О проекте
О подписке
Другие проекты
