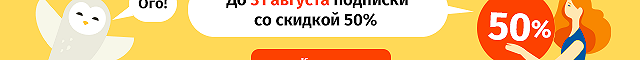
В действующей армии
После июньского переворота 1762 года служба в гвардии, свергнувшей, по мнению Семена Романовича, законного императора, стала для него невозможна. М.И. Воронцов не позволил племяннику уйти в отставку, и тот отправил прошение о службе в армейском полку. Позиция Семена Романовича по отношению к новой власти была хорошо известна правительству, и его регулярно обходят в чинопроизводстве, вынуждая уйти в отставку. М.И. Воронцов к тому времени (1766 год) тоже оставил службу и жил в своем доме в Москве или в имениях. После смерти дяди в 1767 году Семен Романович вернулся в Санкт-Петербург. Он влюблен, а потому счастлив. Прекрасная дама сердца – его двоюродная сестра, графиня Анна Михайловна Строганова, дочь канцлера, умна, красива, императрица принимает активное участие в ее судьбе. В пятнадцать лет она стала супругой барона A.C. Строганова (в 1761 году он получил титул графа Священной Римской империи). Переворот 1762 года расколол семью.
Л. Толке. Портрет М.И. Воронцова
А.Г. Варнек. Портрет A.C. Строганова
Граф оказался в партии императрицы, а Анна Михайловна разделила позицию своей семьи. В 1764 году графиня Строганова возвращается к родителям и теперь представляет себя как «Воронцова, бывшая по несчастью Строгановой»[32] [1].
В конце 1768 года Турция объявила России войну. Долг дворянина – защита Отечества. Семен Романович Воронцов высказывает свое намерение участвовать в военных действиях президенту Военной коллегии И.Г. Чернышеву, который одобрил его желание, заметив при этом, что Воронцов стал единственным офицером, который по случаю войны пожелал вернуться на службу, в то время как просьб об увольнении получено более четырехсот.
С.Р. Воронцов мечтал служить под началом великого военачальника князя П.А. Румянцева, который присягнул новой императрице лишь после того, как удостоверился в смерти Петра III. В 1764 году он был назначен на должность генерал-губернатора Малороссии, ибо России накануне войны с турками следовало иметь крепкий тыл[33]. Находясь в зените славы, П.А. Румянцев оставался простым и доступным в общении. Его уважали как человека государственного ума и прекрасных личных качеств. Неудивительно, что С.Р. Воронцов мечтал видеть именно его своим командиром. Прибыв в армию, он получил в командование гренадерский батальон.
Д.Г. Левицкий. Портрет П.А. Румянцева
7 (18) июля 1770 года состоялось сражение между первой армией генерала П.А. Румянцева и турецко-татарскими войсками крымского хана Каплан-Гирея. На стороне русских 38 тысяч человек, 115 орудий против 65 тысяч татарской конницы, 15 тысяч турецкой пехоты, 33 орудий противника.
Д. Ходовецкий. П.А. Румянцев в сражении при Кагуле 21 июля 1770 г.
За несколько дней до этого П.А. Румянцев отправил Воронцова с 200 егерями сбить с позиции от 2 до 3 тысяч турок, засевших в кустарнике вдоль фронта всей армии. Приказ был выполнен. Потери противника после сражения насчитывали более тысячи человек убитыми и до 2 тысяч ранеными, разбитой оказалась вся артиллерия. Потери русских – 90 человек. За битву при Ларге С.Р. Воронцов был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
Поражение авангарда турецких войск при Ларге способствовало разгрому их главных сил при Кагуле. Здесь соотношение сил накануне сражения было таковым. Турецкие войска – до 50 тысяч человек пехоты, 100 тысяч конницы, 130–180 орудий. Союзники турок – войска крымского хана (до 80 тысяч человек) должны были атаковать русскую армию с тыла. Русских – 38 тысяч человек, 1490 орудий.
После битвы потери противника составили около 20 тысяч человек и 130 орудий, у русских – около 1500 человек. Подобные цифры говорят настолько красноречиво, что не требуют дополнительных пояснений. Великая победа русской армии!
Получив реляцию о сражении, императрица произвела П.А. Румянцева в фельдмаршалы, а С.Р. Воронцова – в полковники. Кроме того, последний был удостоен Креста Святого Георгия 3-й степени[34].
Военно-тактические приемы Воронцова принесли ему уважение A.B. Суворова. «Тактика ваша, – писал тот Воронцову, – должна быть в кабинетах всех государей»[35]. Подобно A.B. Суворову Воронцов искренне беспокоился об условиях жизни своих подчиненных и делал все возможное для улучшения солдатского быта. «Мы молим за него Бога, – говорил один из старых сослуживцев графа Ф.В. Ростопчину. – Он был нам отец, а не командир» [2].
Неизвестный художник. Изображение A.B. Суворова на табакерке
С.Р. Воронцов (а затем и его сын М.С. Воронцов) считал храбрость, самоотверженность врожденными качествами русских солдат, а русских пехотинцев – лучшими в Европе. В своих записках о русском войске он подтверждал свою преданность идеям Петра Великого об организации русского войска, считая, что после 1763 года, когда полковникам была дана неограниченная власть, в армии начались злоупотребления, появилось бесчеловечное отношение к солдатам. В то же время граф высоко ценил заботы Г.А. Потемкина о введении в войсках удобного воинского обмундирования, подчеркивая при этом, что здоровье солдат – предмет неоценимый, о котором более всего надо заботиться командирам. Он считал вредным упразднение многих степеней воинской чинопоследовательности, так как этим было уничтожено соревнование между офицерами и нанесен вред самому духу подчиненности.
С.Р. Воронцов особенно подчеркивал, что состояние войска зависит от нравственных качеств и уровня образования офицеров. При этом считал: «Войско, где все офицеры – дворяне, конечно, выше того войска, где офицеры – выскочки». Он полагал, что дети «мелких торгашей» поступают в армию для получения высокого чина, что, в свою очередь, обеспечит им материальное благополучие. В то же время в дворянских семьях, где дети с семи – восьми лет слышат о славе отцов, с раннего возраста воспитывалось чувство чести, «без которого войско есть не более как людское стадо, обременяющее страну, позорящее ее и неспособное ее защитить» [3].
С.Р. Воронцов не стеснялся откровенно говорить о том, что офицер-дворянин, владеющий поместьем, которое приносит ему основной доход, должен при желании иметь возможность с ноября по февраль находиться в своей усадьбе и заниматься хозяйством. Для этого он предлагал упростить систему предоставления офицерам отпуска, так как служба не должна их разорять и быть им в тягость.
Считая, что достойное выполнение служебных обязанностей – главное доказательство любви к Отечеству, граф относился к службе с особой любовью и привязанностью. Он сумел досконально изучить военное дело как практически, так и теоретически, исследовал тактическую и военно-административную стороны военного искусства. Результатом этой работы над собой стала «Записка графа С.Р. Воронцова о русском войске», которая оставалась актуальной спустя десятилетия после ее написания, практически – на протяжении всего XIX века. В ней С.Р. Воронцов предложил проект создания школы Генерального штаба. Она могла обучать восемьдесят или сто юношей; должна быть независимой от кадетского корпуса; должна находиться в деревне, что позволит проверять теоретические знания на практике; призвана давать ученикам хорошие знания по математике и съемке планов; должна иметь лучшие инструменты, обширную библиотеку; обязана подготовить учащихся к сдаче публичных экзаменов в конце обучения, прием которых осуществлять очень строго.
В результате в Генеральный штаб должны прийти лучшие из лучших выпускников школы. Им начисляется высокое жалованье, они повышаются в воинском звании, а те, кто не выдержал экзамена, отправляются в полки. «Армия, не имеющая отличного Генерального штаба, похожа на тело без души», – считал С.Р. Воронцов. Он полагал также целесообразным открытие в России специальных артиллерийских школ с преподаванием в них математики, физики, химии и обязательной проверкой знаний по теории на практических занятиях. Его волновали также проблемы подготовки молодежи и для дипломатической деятельности. Он считал, что необходимо постепенно готовить русскую молодежь для замещения в дальнейшем должностей консулов, поверенных в делах, посланников, так как засилье иностранцев в дипломатическом ведомстве отрицательно сказывается на его деятельности. Для решения этой проблемы граф предлагал открыть в Петербурге школу для двадцати пяти или тридцати обедневших дворян с целью обучения их иностранным языкам. Затем из них отбирать студентов в Коллегию иностранных дел, где бы они повышались в чинах по мере их способностей.
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке




