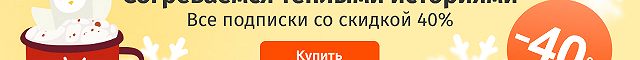
35. Подозрительные лица
Команда, достойная великой миссии, наконец набрана. Мы, полдюжины человек, собираемся в картографической комнате – своего рода библиотеке рядом с каютой капитана. Комната завалена свитками карт, на части из которых успел уже отметиться штурман. Вокруг заляпанного чернилами стола – шесть стульев. Со мной сидят штурман и девочка в жемчужном чокере с гримасой ужаса на лице. Напротив расположились еще одна девушка с волосами синее моря на Таити, парень постарше, которого Бог забыл снабдить скулами, и непременный толстяк.
Во главе стола стоит капитан. У него нет стула. Так и задумано. Он возвышается над нами. Мерцающая за спиной капитана лампа отбрасывает на стол тень в виде дрожащей кляксы, с искажениями повторяющей движения капитана. Попугай примостился на груде свитков, запустив когти в пергамент.
Карлайл, уборщик, тоже тут. Сидит на стуле в углу и обстругивает ручку своей швабры, как будто хочет превратить ее в очень тонкий тотемный столб. Он наблюдает за всеми, но первое время помалкивает.
– Мы качаемся на волнах, таящих неизведанное, – начинает капитан. – В темной, дробящей кости глубине скрываются горы загадок… Но все вы знаете, что нас больше занимают не горы, а долины. – На этих словах его единственный глаз уставился на меня. Я понимаю, что он смотрит на всех нас, но мне все равно кажется, что он источает всю эту пиратскую романтику ради меня одного. – Да-да, долины и впадины. Особенно одна – Марианская. И то место в ее холодной глубине, которое называется Бездной Челленджера.
Попугай садится ему на плечо.
– Наблюдали за вами мы с капитаном, – произносит птица. Сегодня она говорит, как мастер Йода.
– Действительно, мы тщательно изучали вас, – подхватывает капитан, – и с гордостью убедились, что именно вы достойны играть важнейшую роль в нашей миссии.
Я закатываю глаза: больно неуклюже он косит под пирата. Небось даже пишет все через тройное «р».
На мгновение все замолкают. Из угла, не прекращая обстругивать ручку швабры, подает голос Карлайл:
– Конечно, я всего лишь муха на стене, но, по-моему, вам шестерым не помешало бы поделиться своими мыслями.
– Говорите, – приказывает попугай. – Говорите, не томите, все, что знаете про впадину, скажите!
Капитан молчит. Похоже, его немного раздражает, что инициативу перехватили попугай и уборщик. Он гордо скрещивает руки на груди и ждет, пока кто-нибудь подаст голос.
– Ладно, я буду первой, – говорит девочка в жемчужном чокере. – Там глубоко, темно и страшно, а еще жуткие чудовища, о которых я даже говорить не хочу… – и она рассказывает о монстрах, про которых никто не хочет слышать, пока ее не перебивает классический жирдяй.
– Нет! – возражает он. – Самые страшные чудища не на дне впадины, они охраняют подходы к ней! И растерзают тебя прежде, чем ты спустишься туда!
Девочка в чокере, хоть и заявляла, что не хочет об этом говорить, очевидно, все же хотела, потому что теперь она страшно недовольна, что ее перебили. Всеобщее внимание обращается на толстого парня.
– Продолжай! – приказывает капитан. – А вы все слушайте.
– Ну… Монстры не подпускают людей к впадине, убивая и поедая всех, кто подойдет поближе. Не съест один – значит, проглотит другой.
– Отлично! – произносит капитан. – Ты умеешь рассказывать предания.
– Сказителем! – кричит попугай. – Быть ему сказителем!
– Тут все ясно, – соглашается капитан. – Назначаю тебя знатоком преданий.
Толстячок напуган:
– Но я ничего в этом не смыслю! Я просто вспомнил ваши речи!
– Тогда учись. – Капитан снимает с полки, которой секунду назад там не было, фолиант размером с большой словарь и бросает на стол перед носом бедного парня.
– Спасибо, что поделились, – подает голос Карлайл, стряхивая с ножа опилки.
Капитан поворачивается к синеволосой девочке – ее очередь внести свою лепту. Говоря, она смотрит куда-то вбок, как будто нежелание смотреть в глаза – уже бунт против власти.
– Там должно быть затонувшее сокровище или что-нибудь такое. Иначе зачем мы туда вообще плывем?
– Это так, – подтверждает капитан. – Все затонувшие сокровища стремятся к самой низкой точке. Золото, бриллианты, изумруды и рубины, поглощенные жадным морем, влачатся его мокрыми щупальцами по дну и падают в Бездну Челленджера. Море собирает королевскую дань, не трудясь сначала выиграть войну.
– Война-вина-визы-призмы-жизни, – подает голос штурман. – Во впадине живут неизвестные науке формы жизни и ждут своего исследователя.
– И кто же этот исследователь? – интересуется парень без скул.
Капитан поворачивается к нему:
– Ты задал вопрос – ты и предскажешь ответ. – Он обращается к попугаю: – Принеси ему кости.
Птица пересекает комнату и возвращается с кожаным мешочком в клюве.
– Мы назначим тебя пророком, и ты будешь гадать по костям, – продолжает капитан.
– Вот, – объявляет попугай, – кости моего папаши.
– Мы съели его в одно прекрасное Рождество, – добавляет капитан, – когда никто не хотел быть индейкой.
Я сглатываю и вспоминаю Кухню из Белого Пластика. Капитан поворачивается ко мне: оказывается, все остальные уже высказались. Я обдумываю услышанное и начинаю злиться. Единственный глаз капитана налился кровью, а попугай кивает в ожидании новой порции ерунды в добавление к тому, что он уже услышал.
– Марианская впадина, – начинаю я, – глубиной почти одиннадцать километров. Это самая глубокая точка Земли. Расположена к юго-западу от острова Гуам, которого даже нет на вашем глобусе.
Капитанский глаз открывается так широко, что кажется, – у него вовсе нет век.
– Продолжай.
– Впервые исследована в 1960 году Жаком Пикаром и лейтенантом Доном Уолшем на батискафе под названием «Триест». Они не нашли ни монстров, ни сокровищ. Даже если там что-то такое есть, вам дотуда не добраться без батискафа – огромного колокола из железа со стенками толщиной не меньше пятнадцати сантиметров. Но это судно – просто старый парусник, поэтому я сильно сомневаюсь, что у нас на борту имеется такая техника. Так что все это – напрасная трата времени.
Капитан скрещивает руки.
– Да ты просто ходячий анахронизм. И почему ты во все это веришь?
– Потому что я делал об этом доклад. Кстати, получил за него пятерку.
– Верится с трудом. – Он обращается к Карлайлу: – Уборщик! Этот матрос только что заработал двойку. Приказываю выжечь ее у него на лбу.
Пророк хмыкает, сказитель стонет, а все остальные пытаются понять, пустая ли это угроза или сейчас будет весело.
– Все свободны, – произносит капитан, – кроме нашего наглого двоечника.
Все спешат наружу, штурман кидает на меня сочувствующий взгляд. Карлайл куда-то убегает и тут же возвращается с клеймом, уже раскаленным докрасна, будто кто-то предусмотрел все заранее. Два безымянных пирата прижимают меня к переборке, и мне никак не удается вырваться.
– Прости, парень, – говорит Карлайл с клеймом в руках. Я за полметра чувствую исходящий от него жар.
Попугай улетает, не желая этого видеть, а капитан, прежде чем отдать приказ, наклоняется ко мне. Я чую запах его дыхания – кусочки несвежего мяса, вымоченного в роме.
– Это не тот мир, к которому ты привык, – говорит он.
– Тогда что это за мир? – спрашиваю я, стараясь не показывать страха.
– А ты не знаешь? «Мир смеха, мир слез»[6]. – Капитан приподнимает повязку на глазу – под ней зияет ужасная дыра, заткнутая персиковой косточкой. – По большей части слез.
И он делает Карлайлу знак влепить мне двойку за доклад.
36. Без нее мы погибнем
Заклеймив меня, капитан тут же становится мягким и деликатным. Похоже, ему даже стыдно, хотя прощения он не просит. Он сидит у моей постели и смачивает рану водой. Иногда заглядывают Карлайл и попугай – но ненадолго. Они удаляются, едва завидев капитана.
– Это все птица виновата, – говорит он. – А еще Карлайл. Они вдвоем забивают тебе голову всякой ерундой, стоит мне отлучиться.
– Вы никогда не отлучаетесь, – напоминаю я.
Он делает вид, что не слышит, и снова смачивает мне лоб.
– Вылазки в чертово воронье гнездо тоже не идут тебе на пользу. Долой выпивку – за борт дьявольское зелье! Попомни мои слова, от этих адских смесей ты сгниешь изнутри!
Я не говорю ему, что это попугай настоял, чтобы я выпил.
– Ты поднимаешься туда, чтобы влиться в команду, – продолжает капитан. – Я тебя понимаю. Лучше выплескивай эту гадость за борт, когда никто не смотрит.
– Буду иметь в виду. – Я вспоминаю одинокую девушку, украшающую нос: она назначила меня своими глазами и ушами на корабле. Думаю, если капитан хоть когда-нибудь отвечает на вопросы прямо, то самое время попробовать его расспросить, пока ему стыдно за пылающую отметину у меня на лбу. – Когда я лазал на бушприт, я нашел статую. Она очень красива.
– Подлинный шедевр, – кивает капитан.
– Моряки верят, что такие фигуры защищают корабль. Что вы об этом думаете?
Капитан глядит на меня с любопытством, но почти без подозрения:
– Это она тебе сказала?
– Она деревянная, – быстро говорю я. – Как она могла что-нибудь сказать?
– Ну да. – Капитан накручивает на палец бороду и произносит: – Она защитит нас от опасностей, которые ждут нас у впадины. От чудовищ, навстречу которым мы плывем.
– Она имеет над ними власть?
Капитан осторожно подбирает слова:
– Она наблюдает. Она видит то, чего никто больше не видит, ее видения гуляют по кораблю и помогают ему выдерживать атаки. Она – наш талисман, а ее взгляд способен зачаровать любое морское чудище.
– Хорошо, что мы под ее защитой, – замечаю я. Лучше больше не спрашивать, чтобы не вызвать подозрений.
– Без нее мы погибнем, – говорит капитан и поднимается на ноги. – Утром жду тебя на перекличке. И никаких жалоб! – С этими словами он покидает каюту, по пути бросив мокрую тряпку штурману, который явно не расположен со мной нянчиться.
37. Слепой на третий глаз
Голова раскалывается, как будто мой лоб прожгли насквозь. Я не могу сосредоточиться на домашнем задании или на чем-нибудь еще. Боль приходит и уходит, с каждым разом становясь чуть сильнее. Чем больше я думаю, тем сильнее болит голова, а в последнее время мои мозги постоянно перегружены. Чтобы облегчить боль, я постоянно хожу принять душ – так поливают водой перегретый двигатель. После третьего или четвертого душа обычно становится полегче.
Сегодня, в очередной раз выйдя из душа, я спускаюсь к маме попросить аспирина.
– Ты ешь слишком много аспирина, – замечает она и протягивает мне баночку парацетамола.
– Гадость! – говорю я.
– Зато помогает при лихорадке.
– Меня не лихорадит. У меня на лбу растет чертов глаз!
Мама всматривается в мое лицо, пытаясь понять, серьезно ли я. Я не выдерживаю:
– Шутка, шутка.
– Ясное дело. – Мама отворачивается. – Я просто смотрела, как ты морщишь лоб. От этого голова и болит.
– Можно мне аспирина?
– Как насчет адвила?
– Давай. – Он обычно помогает, хотя, когда лекарство перестает действовать, я становлюсь дико раздражительным.
Я отправляюсь в ванную с бутылкой «Маунтин Дью» и глотаю три таблетки, слишком злой, чтобы ограничиться положенными двумя. Я замечаю в зеркале складки на лбу, о которых говорила мама, пытаюсь их разгладить, но не могу. Мое отражение выглядит обеспокоенным. Беспокоюсь ли я? Вроде бы нет, но мои эмоции стали такими жидкими, что спокойно перетекают друг в друга, а я и не замечаю. Теперь я понимаю, что все-таки беспокоюсь. О том, что я беспокоюсь.
38. А вот и хоботок!
Мне снится сон, в котором я свисаю с потолка. Мои ноги сантиметров на десять не достают до пола. Впрочем, поглядев вниз, я понимаю, что у меня нет ног. Мое туловище удлинилось, утончилось и извивается, как будто я червяк, подвешенный кем-то высоко над землей. На чем, кстати, меня подвесили? Похоже, я попал в какую-то сеть органического происхождения. В густую, липкую паутину. Меня передергивает при мысли о том, кто мог такое соткать.
Я могу шевелить руками, но сдвинуть их хоть на сантиметр – такое нечеловеческое усилие, что дело того не стоит. Кажется, я здесь не один, но остальные висят сзади, так что их не видно даже боковым зрением.
О проекте
О подписке
Другие проекты
