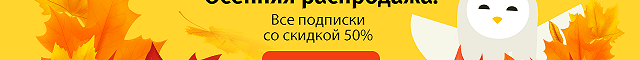
– А я знаю. Ты же мой верный… лыцарь Ричард. Но… поговорим об этом в другой раз, – совсем не обижаясь, даже весело, отозвалась Шурочка и, по обыкновению взъерошив мне волосы, спрыгнула с подножки. Мелко стуча каблучками по доскам тротуара, она побежала к дому.
Биллэж пришел к нам в барак в отменном настроении («юморе», как вычурно называл он). Гараж был пуст и звонок, как старый лабаз, и одни ручные голуби еще перепархивали под его закопченными стропилами, устраиваясь на ночлег.
Кто-то из нас попросил механика сыграть на скрипке, и я побежал в его редко когда запиравшуюся комнату в «семейном сарае» за скрипкой и смычком.
– Канифоль на столе! – крикнул он мне вдогон, и я понял, что старина сегодня в особом ударе и одними «Сказками Венского леса» или увертюрой к «Кармен» дело не обойдется.
Но получилось все совсем иначе.
Механик еще сосредоточенно канифолил смычок, а кто-то из самых молодых шоферов, дурачась, подошел к эриксоновской вертушке и басом сказал в поднятую трубку:
– Ресторан «Норд?» Срочно две дюжины пильзенского! Нет, жигулевского! И еще…
И тут шутник умолк на полуслове, прикусив язык. А я еще от стола не услышал – почувствовал, как ветерок на лице, Шурин голос, уменьшенный всеми несложными хитростями мембраны и шестьюдесятью километрами провода.
Шура пела тоскующе и призывно:
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты…
Единственный человек в третьем бараке – Васярка Доган, по праву моего давнего сменщика знавший тайну наших отношений с «четвертым номером», накрыл черное блюдце эриксоновской мембраны своей полупудовой пятерней, отобрал у шутника трубку и предостерегающе подмигнул мне.
Я, махнув через скамейку, сразу очутился возле «скворечни» и тут же перехватил трубку из горячей Васяркиной руки. А он, только шепнув: «Твоя поет!» – как ни в чем не бывало полез в ближайшую тумбочку, словно за этим и подходил сюда.
В нашем быту вечных разыгрываний и подначек эта дружеская предосторожность совсем не была излишней. Многие и так уже догадывались, где это я пропадаю все свободное время, часто в ущерб и сну и отдыху.
Незаметно подняв к уху перехваченную из рук Васярки трубку, я захватил только виноватые слова Шуры:
– Ничего не выходит. Накупалась. Охрипла. Давайте лучше я вам спою «Нам не страшен серый волк» или «Кукарачу». Это полегче.
Кто-то на линии ожесточенно заспорил, а кто-то сказал басом, вероятно, старший диспетчер Усть-Кои:
– Ну давай, Шурочка, «серого волка». Где он, твой «серый волк»?
И вот шаловливая песенка сначала потихоньку, речитативчиком, потом все озорнее и громче пошла гулять вприпрыжку, по проводам, по всем двумстам шестидесяти четырем километрам телефонной линии.
Ни один на свете зверь,
Свете зверь, свете зверь… —
все громче пела Шура.
И потом я часто задавал себе этот вопрос: ведь у людей и в те давние времена уже было всегда под рукой и областное и московское радио и патефоны, почему же песенки Шуры были так популярны на автолинии? Ответ этому мог быть только один: Шура для всех была своим человеком, и ее голосом гордились, как собственным достижением. Всего «четвертый номер» чапейской телефонии, а как поет! Не хуже, чем по радио.
Но тут Биллаж, прерывая мои несвоевременные раздумья, подошел к телефону. Прекрасно прослушивавший без стетоскопа даже самый легонький посторонний шумок в шатунно-кривошипной группе любого мотора, он через мое плечо нагнулся к телефонной трубке, ударил смычком по всем четырем струнам и бравурно заиграл свою любимую увертюру к «Кармен». Но тут же оборвал ее на первых тактах, на полутоне и крикнул в трубку, в поднявшийся возмущенный гомон всех Шуриных слушателей от Чапеи до Усть-Кои:
– Алло, Шурочка! Говорит Биллаж с Веселого. Помните, подвозил вас на ремонтной летучке? Вы еще сказали, что я похож на Бернарда Шоу, только посмуглее. Что вы скажете о нашем дуэте? Вы будете вокальное соло под мой аккомпанемент. Попробуем?
И Шура, к моему удивлению, нисколько не обиделась, а весело спросила в трубку, зажатую в моей руке:
– А что мы споем, товарищ механик?
– Биллаж, майн хайлигер хёрц. Раймонд сын Фердинанда мое имя. Все, что вам угодно, – прямо зашелся от удовольствия наш механик.
– Тогда давайте «Расскажите вы ей, цветы», – также весело и лукаво предложила Шура. Посмотрим, мол, что ты за музыкант и какова твоя эрудиция и память. – А Коля с ЭХА-14-73 там вблизи нет?
– Вы ясновидящая, Шурочка. Названный Коля стоит рядом и от ревности готов меня проглотить вместе со скрипкой и канифолью.
– Так дайте ему трубку. Он знает, как ее держать, чтобы звук был полнее.
– Век живи, век учись: мы и не подозревали, что наш Коля так эрудирован в акустике.
Хохотал Биллаж, смеялась Шура, смеялись все шоферы в третьем бараке, все диспетчерские и телефонки на линии от Чапеи до Усть-Кои, и даже я улыбался, потому что обижаться на нашего «австрияка» было невозможно, да и гордость от того, что Шура уже не скрывает нашего знакомства тоже ударила мне в голову.
Не смеялся один Сашка Кайранов, зажавший уши над столом, над толстым учебником для шофера 1-го класса, и лицо его было сосредоточенно и хмуро – он как раз бился над кольцевыми диаграммами фаз газораспределения, над видами планово-предупредительных ремонтов, которые после месяца, проведенного за рулем тяжеловоза, зазвучали для него по-новому.
Но когда заиграл Биллаж, – Шурино пение мы, конечно, не слышали, – улыбнулся и Сашка и отложил учебник.
Старик играл истово и вдохновенно, и капельки пота обметали его лоб и залысины на висках. Великое чудо музыки входило в наш непроветренный, пропахший бензином и табачищем барак.
Куда-то в сторону отступили и залатанный пиджачок Биллажа, и расстегнутый ворот его несвежей помятой сорочки, и меховые туфли на босу ногу. Осталась только скрипка и вошедшая в нее тоска бедного юноши, пытающегося вдохнуть ее в цветы, оживить, очеловечить их и сделать гонцами своего сердца к далекой спящей возлюбленной, увы, любящей другого.
Смычок то медленно скользил по струнам, то властно подгонял еще не отзвучавшую в воздухе мелодию, и Биллаж наклонялся, подчеркивая плечом все растущий звук, и казалось, скрипка не выдержит— и ее разнесет к чертям всей этой могучей нарастающей лавиной звучаний.
А наши сердца, грубоватые и простые, как бубны, сердца рядовых всевеликой шоферской вольницы, словно стая пегих голубей-турманов за шестом своего владельца, то взмывали ввысь и кружились там высоко в небе, верные приказу смычка, то спускались до самого конька закопченной гаражной крыши.
Когда механик кончил играть, по мембране защелкали клевки далеких аплодисментов, и, сразу заглушая их, дружным обвалом зааплодировал весь третий барак и все собравшиеся возле его широко распахнутой двери. Без малого весь Веселый Куток сошелся перед нашим жильем на трепещущий огонь скрипки Биллажа.
За сверкающими в сумерках черными вишнями Лидочкиных глаз, холодно и желто, как медная кираса спешившегося кавалергарда, светилась кожанка самого Гребенщикова, никогда в этот поздний час не шлявшегося по двору без особой деловой нужды.
– Вот так-то, молодые люди. Веселиться, как и работать, надо уметь, – вытирая пот со лба огромным трехцветным платком, поучительно и устало сказал Биллаж, за пять-шесть минут игры осунувшийся, словно после сердечного приступа. – И учтите еще: вначале была музыка. Вначале всего.
О проекте
О подписке

