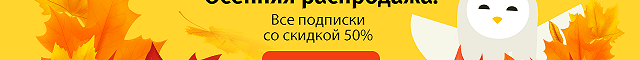
– Спиливай, Сашенька. Ничего другого не придумаешь. Да-с. «И невеста зарыдает, и задумается друг», – внезапно прочел он чьи-то неизвестные мне стихи и опять, призакрыв глаза синеватыми веками очень усталого человека, пробормотал шепотом почти про себя:
– Значит четверо – и лесенкой, мал мала меньше?
– Ну, это-то еще полгоря, – тоже уже совсем другим тоном, доверчивым и печальным, отозвался Сашка. – Главное, плохо то, что мать прихварывает. – Он повернулся на локте к Биллажу и закончил с легкой дружеской укоризной: – А вот за одно я бы мог на вас и обидеться, Раймонд Фердинандович.
– Догадываюсь, – подавленно буркнул механик. – Но откуда же я мог знать? Ведь речь-то о деньгах шла, а уж раз деньги замешаны…
– И деньги всякие бывают. Но как вы могли подумать, что лично мне сами по себе могут стать так нужны деньги? Да что же я…
нищий, что ли? Тьфу! – не слушая и не принимая в резон признания своей вины Механиком, поморщился Сашка и снова повалился на мох.
И как раз в эту минуту где-то совсем близко вскрикнула кукушка и старательно, плавно начала отсчет своих серебряных звонких капель.
– Александр, считай, сколько тебе положено жить на белом свете, – шепотом предложил Биллаж, и так же шепотом ответил ему Сашка:
– Почему это именно мне считать? Считайте уж вы за себя, коли охота есть.
Биллаж ухмыльнулся.
– Э, я и так знаю – долго не проживу. Время не за стариков. Оно за вас, быстротекущее время. Шесть, семь, восемь…
Он досчитал до ста, уважительно чертыхнулся, а потом, на сто десятом замолчал, верно, сморенный солнцем, смоляной духотой тайги и бессонной ночью.
А кукушка продолжала колдовать, монотонно, негромко, через равные паузы, опять напоминая старинные часы, у которых что-то случилось с заводом, и они открикивают за неделю подряд. И никто из нас тогда не подумал, что далеко не все в это раннее и уже нестерпимо душное утро было только шуточным. Но как же можно было бы вообще жить на свете, если бы не существовало тайны грядущего?
Так оно и прошло, то утро: куковала незаметная крапчатая птичка, распластавшись висел в небе над начни ястреб, да едва заметно всхрапывал побежденный жарой механик Биллаж.
Ночью меня разбудил загрохотавший под окнами мотор – кто-то поленился идти от ворот пешком за сменщиком и подогнал машину к бараку. Поругиваясь, я сел на постели и сразу увидел, что Сашкина койка пуста и даже не помята.
«Понятно, не иначе опять со стариком колдуют», – решил я и, вспомнив их утренний разговор об уменьшении камеры сжатия, стал искать под койкой сапоги. Эксперименты над камерой сжатия занимали меня в то время не меньше нашумевшего фильма «Человек-невидимка».
Я нашел Сашку в пустом и полутемном гараже за слесарным верстаком у задней стенки. В одной насквозь пропотевшей майке, со слипшимися от пота волосами он, как приговоренный, гонял взад-вперед по перевернутой и зажатой в тиски головке блока тяжелый круг карборундового точила. Под яростным светом лампочки, низко опущенной над верстаком, блестела россыпь мельчайших опилок, и карборунд под Сашкиными руками скрипел, как мельничный жернов, пущенный вхолостую.
– Это как понимать? Изобретательство? Или конструирование? – спросил я, постояв за его плечами.
Сашка вздрогнул от неожиданности и обозвал меня почти непечатно.
– Кустарщина, а никакое не изобретательство, – сказал он все еще сердито. – На станке бы за час снял а тут суток трое потеть придется. Нет, трое мало. Меньше пяти ночей не уложишься. Ну чего, спрашивается, тебя принесло?
– Выспался, вот и принесло. Любопытно все-таки. И намного мощность прибавится?
– На сколько нужно, на столько и прибавится. А любопытному в театре нос прищемили, На, потри лучше, раз пришел.
Сашка скупо усмехнулся, и стало ясно, что он рад моему приходу – все-таки карборунд по стали ходил достаточно туго, а на мой язык Сашке, казалось бы, можно было положиться.
Я, не говоря ни слова, снял пиджак и, закатав рукава, взялся гонять точило по всем плоскостям «экспериментальной головки».
* * *
А мое увлечение Шурой Король уже подходило к своему зениту.
Влюблен я был совершенно показательно, и еще дивно, как за все лето ни разу не опрокинулся со своей железной бочкой в кювет.
В редкие минуты, когда мне удавалось осилить и как очень тугой реостат выключить свою вечную мечту, я сомнительно присматривался к желтоватому и пыльному ветровому стеклу – не отпечаталось ли на нем Шурино личико в обрамлении блестящего обруча с телефонными наушниками, – так постоянно было там его место между щеточкой снегоочистителя и прозрачной маркой завода оргстекла.
На телефонке, никем не охраняемой и очень провинциальной, я стал совсем своим человеком. И если не был в рейсе или на ремонтной яме, то, с попутной цистерной добравшись до Чапеи, на ходу спрыгивал у белого домика за тремя сосенками и честно высиживал с Шурой чуть ли не каждое ее восьмичасовое дежурство. Она меня ни разу не прогнала, так как вел я себя совсем по-рыцарски, скромно.
С металлическим шорохом отваливались никелированные медальки крышек на номерах коммутатора, Шура втыкала штепсель в гнездо под номер и неизменно говорила только одно слово:
– Четвертый! – свой порядковый номер телефонистки. Изредка она беззлобно спорила с особо нетерпеливыми абонентами. Я же, совершенно выпав из времени, сидел на обитом потрескавшейся клеенкой диване и до ряби в глазах смотрел, как вздрагивают завитки светлых волос на ее тоненькой и нежной шее, или вполголоса читал ей, автоматически орудовавшей своими штепселями, захваченную с собой книгу. Когда в немногословной работе телефонистки наступало затишье, Шура садилась рядом, и мы читали книгу вместе, каждый про себя.
Так мы, то вслух, то голова к голове, прочли «Пармскую обитель» и уже дочитывали «Как закалялась сталь».
А еще Шура пела – вполголоса, оградив рожок переговорного гарнитура ладонью, пела, как в черную воронку, – для всей автолинии.
Но мне уже казалось, что автолиния со всеми ее телефонистками, диспетчерами и прочими «вольными слушателями» из всякого автоллюда тут ни при чем, и поет она только для меня.
Это было и радостно до стеснения в сердце и все-таки недостоверно, как сон под утро, когда уже ясно, что это сон – ведь сидела-то Шура всегда ко мне спиной, а я стеснялся встать и посмотреть ей в глаза.
Но я был еще очень молод и всякие лирические чувства так распирали мою грудь, что без прямого объяснения тут было не обойтись.
Не надеясь на слова, я и на этот всерешающий раз принес с собой книгу, заранее отчеркнув нужное место.
Книгу эту я нашел на полке у Биллажа в стопке старых комплектов «Автомобиля». Обложка и заглавный лист у нее были оторваны, и я так и не узнал тогда ни автора, ни названия этой удивительной повести о мученической и трагичной судьбе ее семерых героев.
На телефонке было тихо – до того тихо, что шум одинокой мухи, застрявшей между стеклами ярко освещенной рамы окна, казался значительным и грозным. Шел второй час ночи. Абоненты спали.
Шура; еще минут сорок назад выдернув последний штепсель, с размаху плюхнулась на застонавший гнутыми пружинами диван рядом со мной и счастливо засмеялась.
Я держал перед собой открытую книгу и от волнения не видел ни единой строчки.
– Хорошо! – с чувством сказала Шура и, блаженно закрыв глаза, выбросила вперед руки, словно готовясь к прыжку в воду. – И главное, знаете, что в нашем знакомстве хорошего? Не знаете? Ну, я скажу. Впрочем, не стоит. А что это вы читаете?
Наше чуть-чуть деланное «вы» ни одного из нас не смущало, наоборот, как бы придавало всему тон особой строгости. Я молча подсунул ей потрепанную книжицу с отчеркнутым красным карандашом абзацем, и Шура сразу попалась на эту наивную удочку.
Быстрым шепотом она прочла отчеркнутое:
– Море, – сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух, – там море.
Муся звучно отозвалась (и тут-то следовало особо жирно подчеркнутое):
– Мою любовь, широкую, как море!
– Ты что, Муся? (вся следующая строка опять была подчеркнута красным).
– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.
– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.
Покорившая меня фраза, так, казалось, созвучная моим ощущениям, повторяясь приглушенным рефреном, прошла в ее удивленном полушепоте. Но тонкая музыкальная натура этой районной телефонистки, видно, сразу расшифровала нарочитость подчеркнутого мною места, и читала она под конец протяжно, почти скандируя, с едва уловимым оттенком незлой иронии.
– Однако вы, Николай Иванович, не очень изобретательны, – помолчав с минуту, вдруг строго сказала Шура и со вздохом положила книгу на диван. – Уж взяли бы просто «Евгения Онегина». А то вы такой сухопутный и тихонький – и море! Mo-ре, вы понимаете?
– Но там же Ольга… А тут просто то, что я чувствую, – не сдаваясь, угрюмо перебил я.
Шура опять усмехнулась, и ее подвижные бровки лукаво сошлись нал переносьем.
– Ну и зачеркнули бы Ольгу и написали… другое имя. Раз уж не можете промолчать.
После этого она отодвинулась от меня на полметра и так же мечтательно сказала:
– Море!.. Но мы с вами ведь его ни разу не видели. Что мы знаем о море?
– Я видел его сто раз! – вполне искренно вырвалось у меня. Шура не удивилась. Только потом я догадался, что под этим морем, невиданным ни ею, ни мной в натуре, она подразумевала совсем другое.
– Где это вы его видели?
– Во сне! – так же запальчиво буркнул я, начиная распаляться самолюбием: «Ну, не нужен я тебе – скажи прямо, а к чему все эти подфигуривания?»
Но Шура, сразу уловив все оттенки моей обиды, с каким-то чисто женским тактом свела все на шутку:
– Ну разве что во сне! Нет, это не то. Во сне я даже летаю. Нет, бросим о море. Дружба лучше.
Она помолчала, насмешливо пошевеливая бровями, а потом сказала совсем материнским тоном:
– Так вот, дорогой мой товарищ Никто. Знаете, что самое главное в наших отношениях?
– Для себя знаю.
Но Шура отодвинулась еще дальше и погрезила мне пальцем с покрашенным и острым ноготком.
– Не надо быть таким эгоистом. Самое главное в наших отношениях – это то большое доверие, которое я к вам питаю. И вообще, я начинаю считать вас своим искренним другом… И – запомните – пока мне этого вполне достаточно. А еще я страшно хочу спать. Вы посидите за меня возле «умывальника»?
Что мне оставалось делать? И я сидел на ее конторской круглой, обитой кожей табуретке, читал великолепный и страшный рассказ о семи повешенных, двух девушках и пяти мужчинах, а Шура, заперев наружную дверь на крючок и сняв туфельки, ровно дышала, свернувшись клубочком на диванчике, и лицо ее было безмятежно.
Под щеку она постелила на валик дивана чистый носовой платок и, словно заслоняясь от света, держала одну руку на закрытых глазах. Иногда, шепотком щелкнув, отваливалась круглая крышечка над одним из черных номерков коммутатора, я втыкал в тугое гнездышко штепсель и говорил тонко, стараясь подражать Шуриному голосу:
– Четвертый! – И спать мне не хотелось ни капли, потому что вокруг меня был необычной свежести воздух, которым дышала Шура, воздух огромной горной высоты и разряженности от всего земного. Какой уж тут сон!
Потом, сдав смену, мы шли вдоль берега Лежмы, и тихое солнце, встающее за бетонным кубом ТЭЦ, клало на нее отлогие, еще не жаркие лучи, и вода маслянисто светилась.
Редкие прохожие провожала нас понимающими взглядами, и откуда было знать им, наивным северянам, упрощенным тайгой, охотой и лесосплавом, что я даже ни разу не поцеловал эту кареглазую девушку в легонькой газовой косынке на светлых волосах…
* * *
Примерно в эти же летние недели километрах в ста к северу от Чапеи бурно зафантанировали три только что пробуренные нефтяные разведочные скважины, и вернувшийся с курорта Гоша Гребенщиков, похудевший и загорелый, собрал к себе в кабине-тик при квартире обоих механиков и все комсомольское бюро.
Колонна наша по возрасту как-никак была молодежной, а Георгий Петрович, только за глаза именуемый Гошей, прекрасно понимал, что без опоры на наше бюро ему не обойтись.
За стеной кабинета, помещавшегося, в полудачном домике Гребенщиковых, мелко стучала швейная машинка, потому что сама Лидия Алексеевна в свободные от дежурства часы никогда не сидела без дела, и весь тон совещания был поначалу совсем не официальным.
– Как отдохнулось, начальник? – только усевшись перед столом «шефа», спросил Биллаж с той добродушной фамильярностью очень старого автомобилиста, обращающегося к коллеге – автомобилисту помоложе.
– Какое отдохнулось! – подавленно вздохнул начколонны, но все запахи крымско-кавказского побережья так распирали его могучую грудь, что сразу настроиться на официальный лад он все-таки не смог. – Больше измучился и, между нами, девушками, пропился, как турецкий святой… Словом, Петропавловскому пришлось телеграмму отбивать: «Терплю бедствие. Возврат месту службы под угрозой срыва. Срочно шлите триста рублей. К сему Гребенщиков».
Все дружно засмеялись над так явно тут же сочиненным текстом фантастической телеграммы, потому что Николай Федорович Петропавловский был вовсе не из тех начальников, кому можно было давать такие сигналы бедствия. Но даже в этом невинном вранье была доля правды: пропившись на курорте, Гребенщиков и самому крупному начальнику, вплоть до замнаркома, никогда бы не сказал, что проболел малярией. И Гошу, не смотря на властный характер, мы больше всего почитали и даже любили именно за это свойство: никогда не лицемерить и не называть черное белым.
– Да и как не обсохнешь, когда на каждом перекрестке то подвальчик, то ларек, и любой кацо на одну пробу чуть не полный стакан наливает. Так как же меньше литра брать, коль на пробу стакан? Выходит, в переводе на сибирский язык: у тебя душа, а у меня портянка? Ну, вина там легкие, в голову не бросаются – макузани, табиани, алла-верды всякие. Прямо чистая Франция, Шампань или Токай…
Неистовое южное солнце еще переливалось в свинцовых глазах Гоши, так запросто путавшего Шампань с Венгрией, и мы от души сочувствовали своему шефу, ошибавшемуся не только в географии, но и в мере потребления всяких связанных с нею благ. Приревновал его к никем не виданной Шампани один Горбунов:
– А как, осмелюсь спросить, названия этих подвальчиков, Георгий Петрович, не запомнили? Ну там «Рион» или «Алазань», что ли… – будто бы невинно спросил он, наш неизменный и прилипчивый «пластырь».
Гоша виновато вздохнул.
– Ну разве запомнишь? Да и не по-русски написано, – развел он руками, все еще видя перед собой вовсе не железные вывески с кудрявой грузинской клинописью, а лишь одно кавказское солнце, бьющее сквозь стакан легкого золотого или розового вина.
– Ну, тогда осмелюсь доложить, что до Франции вашим подвальчикам как до Луны, – авторитетно объявил тоже никогда не бывавший во Франции Горбунов, беря в кулак свою генеральскую бороду. – Вот, например, слышал я, в Париже был шоферский кабачок «Дохлая корова», а напротив конкурент кабатчика открыл другой под вывеской «Корова, которая еще не сдохла». Ну как такое забудешь? И у каждой «коровы» были сторонники. И чудесная картина будто бы получалась…
Но теперь улыбнулся только один Биллаж, который по утрам, если не дежурил в ночь, был всегда очень вежлив, а мы промолчали. И вовсе не из раболепия перед Гошей Гребенщиковым, просто вечное противопоставление Горбуновым заграницы всему советскому уже набило нам оскомину. И насмешливо перекосившаяся бровь Петра Ельца могла означать только одно: ну его, этого знатока понаслышке парижских «Дохлых коров», у Гоши рассказ получался как-то сочнее.
– Нда-а, чудесна картина: коза везет Мартына, – чуть-чуть озадаченно, но тоже ревниво сказал Гребенщиков и в четверть глаза подмигнул Биллажу. – А вот, наоборот, Мартын козу везет. Однако, делу время – потехе час, давайте о деле.
Пословица о козе и Мартыне, завезенная на Веселый откуда-то с юга, была у нашего начколонны любимой и имела массу оттенков. Сейчас она могла значить только одно: хоть ты и с генеральской бородой, а не задавайся, с твое-то мы как-нибудь знаем. Только на анекдотах и едешь.
– Так вот, рабочий класс, – уже внушительно сказал Гоша, в прошлом сам рекордист-скоростник и тяжеловозник, за что, собственно, Петропавловский и наградил его властью. – Нефть бросает нам вызов. Будем принимать? Или подождем, когда начальство прикажет?
– Трубы-то? Повозим, – беспечно и гордо отозвался как всегда первым Петро Елец, наш бессменный комсорг, уже знавший от того же Гребенщикова о новых скважинах на Севере. – Только давайте одров под них не ставить. Горы. Скользь. Один Крохаль боком вылезет.
– Раймонд Фердинандович, кого? – уже решительно вступая в деловую струю и понимая все, относящееся к ней с намека, повернулся Гребенщиков к Биллажу.
«Австрияк», совсем как в классе, поднялся с места и достал из нагрудного карманчика блузы свой увесистый «талмуд» – пухлый блокнотище, вмещающий чуть ли не все послужные формуляры автопарка колонны.
– Да вставать-то зачем? – явно любуясь его всевмещающим «талмудом», пророкотал Гоша, и механик с достоинством опустился на место.
Он всегда и во всем подавал нам пример дисциплинированности и уменья себя держать на людях. И иной раз было достаточно его холодноватого и напряженного: «Вы, молодой человек, забываете, что находитесь на службе», – обращенного к провинившемуся, чтобы вся наша шоферская вольница стихала и переставала поддерживать любого нарушителя гаражного порядка, будь то хоть сам Володька Яхонтов.
– Я полагал бы, товарищи, остановиться на следующих машинах, – подчеркнуто бесстрастным тоном эксперта, выступающего в суде, начал он, легко листая свой оправленный в кожу блокнот и одновременно доставая из футляра тяжелые профессорские, тогда еще редкие на севере, очки-велосипеды. – То ёсть полагал бы переоборудовать под трубовозы следующие гаражные порядковые номера…
Он один за другим называл номера машин, а Гоша, не оспаривая ни одного, четко и крупно записывал их на лист чистой бумаги, и на лице его было спокойное выражение командира, уверенного в своем начальнике штаба.
Мы же все, члены комсомольского бюро, следили за цветным карандашом Гоши и в душе слегка недоумевали: причем бюро во всем этом, чисто административно-хозяйственном священнодействии? Но Гоша из всего умел извлекать выгоду для своей «колонки».
Кроме двух имеющихся на Веселом трубовозов, Биллаж назвал еще шесть ЗИСов, видимо, с учетом их малого пробега, и только после жирной черты под последним номером, особо твердо проведенной Гошей, снял очки и сокрушенно забрал в горсть бритый подбородок.
– Но прицепы, Георгий Петрович, жидковаты, – сказал он горько и сожалеюще развел руками, – и вы сами понимаете, ни Григорий Иванович, ни я взять их на свою совесть не можем-с. Они, извините, оборудованы на соплях-с. Последний, так сказать, путный я поставил Кайранову и провозился с ним два дня.
– Не унывай, отче Раймонде. Прицепы усилим, – благодушно пророкотал Гребенщиков и накрыл все шесть номеров на листе своей великаньей ладонью, как бы беря их под защиту от излишнего формализма и привередливости механиков. – Наварим планки. Поставим швеллерные траверзы.
О проекте
О подписке
Другие проекты

