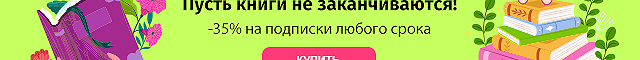
Заграничная собачья жизнь
– Нет, совсем не с руки нам, русским, эта самая немецкая жизнь! – говорил Николай Иванович жене, сидя в мчавшемся вагоне. – Тут год живи, да и то не привыкнешь к их порядкам. Заметила ты, как поезд-то отправился? Ведь ни одного звонка не было. Только-то успели влезть в вагон, кондуктор свистнул – и покатили на всех рысях. Право, не будь при нас этого самого Франца, мы бы опять перепутались и попали не в тот поезд. За две-то минуты до нашего поезда подлетел поезд, так я и то хотел в него вкарабкаться, ежели бы меня Франц за рукав не удержал. А поезд-то тот шел в Вену. Ну кому в голову придет, что по одним и тем же рельсам в семь часов и пятьдесят одну минуту можно ехать в Вену, а через две минуты в другом поезде в Кельн! А уж спешка-то какая! Вот кому ежели с родственниками проститься перед отходом поезда, да ежели провожают тебя пять-шесть родственников… Тут и одного чмокнуть не успеешь.
– Ну, это-то пустяки, – отвечала Глафира Семеновна. – Начмокайся заранее, да и дожидайся поезда.
– Не тот фасон, Глаша, совсем не тот фасон. С провожающим родственником приятно войти в вагон: вот, мол, где я сяду, потом честь честью расцеловаться, сбегать в буфет, опрокинуть на скорую руку по рюмочке, опять вернуться, опять расцеловаться. Отчего же это все у нас делается, а у них спешат, словно все пассажиры воры или разбойники и спасаются от погони. И куда, спрашивается, спешить? Ведь уж рано ли, поздно ли будем на том месте, куда едем. Знаешь что? Я думаю, что это немцы из экономии, чтобы лишнего куска не съесть и лишней кружки пива в дороге не выпить…
– Да конечно же, – согласилась супруга.
– А уж пиво у них соблазнительное. Только и хорошего есть во всей Неметчине, что пиво. Пиво – что твой бархат.
Николай Иванович бормотал, порицая немецкие порядки, а Глафира Семеновна, вынув из саквояжа русско-французский словарь, отыскивала разные французские слова, которые, по ее соображению, должны будут понадобиться при въезде на французскую территорию.
До Кельна доехали без особенных приключений, прибыв на кельнскую станцию часов в девять вечера. Из Кельна в Париж поезд должен идти в полночь. Оставалось много свободного времени, и вот Николай Иванович и Глафира Семеновна направились в буфет. Столовая комната была переполнена проезжающими. Кто ждал поезда в Париж, кто в Берлин, кто в Майнц, кто в Мюнхен. Немецкая речь чередовалась с французской, цедил сквозь зубы англичанин по-английски, и вдруг послышалась русская речь. Николай Иванович вздрогнул и обернулся. Обернулась и Глафира Семеновна. За столом перед бутылкой рейнвейна сидел, откинувшись на спинку стула, жирный широколицый человек с жиденькой бородкой и гладил себя пухлой рукой с бриллиантовым перстнем на указательном пальце по жирному чреву, на котором колыхалась массивная золотая часовая цепь с целой кучей учредительских жетонов. Одет жирный человек был в серую пиджачную пару купеческого покроя и имел на голове шляпу котелком. Против жирного человека через стол помещался седой рослый усач в пенсне, с сигарой в зубах, в сильно потертом пальто-крылатке и в мягкой поярковой шляпе с широкими полями. Жирный человек и усач разговаривали по-русски.
– Русские… – прошептал жене на ухо Николай Иванович. – Сядем за их стол. Можно познакомиться и кой о чем порасспросить.
Супруги тотчас уселись за стол.
– Кельнер! Цвай бифштекс и цвай бир! – скомандовал Николай Иванович прислуге и, обратясь к жирному человеку, спросил, приподнимая шляпу: – Кажется, тоже русские? Изволите в Париж на выставку ехать?
– Нет, уж с выставки, чтоб ей ни дна ни покрышки! – отвечал жирный человек, не переменяя своего положения. – Теперь обратно в свои московские палестины спешим.
– Вот удивительно, что вы так честите выставку! Все, которые оттуда возвратились, нам очень и очень хвалили ее. Говорят, уму помраченье.
– Грабеж-с… Грабеж на большой дороге за все, а жизнь – собачья. Конечно, везде цивилизация, но по цивилизации и грабят. Четвертаков-то этих самых сорокакопеечных мы вытаскивали, вытаскивали из-за голенища, да инда надсадились.
– Неужели такая дороговизна? – удивился Николай Иванович.
– Ну, не так чтоб уж очень, – вставил свое слово усач, вынимая изо рта сигару. – Понятное дело, в Париже во время выставки все дороже, но…
– Ты, граф, молчи. Ты тратил не свои деньги, а чужие, так тебе и горя мало, – перебил его жирный человек, – а я и за тебя, и за себя свой истинник вытаскивал. Да, вот как… У нас в Москве, к примеру, ихний же французский «Сан-Жульен» хоть в каком грабительском ресторане полтора целковых за бутылку, а с меня в Париже за бутылку этого самого вина шестнадцать четвертаков взяли. По сорока копеек четвертак – шесть рублей сорок. Пять бутылочек мы вот по глупости нашей с графом-переводчиком с жару охолостили – тридцать два рубля заплатили.
– Да ведь не тот «Сан-Жульен», Петр Никитич.
– Что ты мне толкуешь. «Сан-Жульен», все «Сан-Жуль ен». Грабители! Разбойники! Потом тоже делали нам по особому заказу простую русскую уху в ресторане… Переводчик! Как ресторан-то?
– «Бребан»… – ответил усач.
– Ну, вот этот «Барабан» так нас отбарабанил по карману, что до новых веников не забудешь. Стыдно и сказать-то, сколько за уху отдали.
– Да ведь ты же, Петр Никитич, непременно живую стерлядь захотел, а у них стерляди дунайские, из Австрии, привозные…
– Ну, так что ж из этого? Стерлядка была меньше комариного носа.
– Потом рейнская лососина.
– Молчи! Не выгораживай грабителей… Грабители и грабители! И не понимаю я, чего мы, русские, туда едем? – продолжал жирный человек. – Да у меня в Москве полная чаша, в четырнадцати комнатах с бабой и с детьми живу, шесть человек прислуги, глазом моргни, так со всех ног бросаются на услугу; у подъезда рысак в пролетке на резинах, а кучер на козлах, что твой протодьякон. А я потащился в Париж, чтоб за двадцать франков в день в двух паршивых каморках существовать, по шестьдесят три ступени под небеса отмеривать, на дурацких извозчиках трястись. Да у меня в Москве каждый приказчик вдвое лучше живет, чем я в Париже жил. Утром проснешься, звонишь, звонишь, чтоб к тебе прислужающий явился, – когда-то еще он явится! Самоваров нет, квасу нет, бани нет, о ботвинье и не слыхали. Собачья жизнь, да и что ты хочешь! Напился ихнего паршивого кофею поутру – беги на выставку. Бродишь, бродишь, ломаешь, ломаешь ноги – обедать в трактир, а не домой. Сидишь в ихнем трактире и думаешь: «Батюшки! Не накормили бы лягушкой…» Поешь – сон тебя так и клонит. Тут бы прилечь да всхрапнуть, как православному человеку подобает, а ты опять бежишь, бежишь неизвестно куда, в какие-то театры…
– Зачем же ты бежал в театры? Ехал бы домой спать.
– Да ведь ты тащил, говорил, что вот такая и такая диковинка, нельзя быть в Париже и не видать ее…
– А ты мог не соглашаться и ехать домой.
– Да ведь с выставки-то пока до дому доедешь, да шестьдесят три ступени в свою комнату отмеряешь, так, смотришь, и разгулялся, сна у тебя как будто и не бывало. Да и в театре… Сидишь и смотришь, а что смотришь – разбери! Только разве какая-нибудь актриса ногу поднимет, так поймешь, в чем дело.
– Врешь, врешь, – остановил жирного человека усач. – В театрах я тебе обстоятельно переводил, что говорилось на сцене.
– Собачья жизнь, собачья! – повторил жирный человек и, кивнув на пустую бутылку рейнвейна, сказал усачу: – Видишь, усохла. Вели, чтоб новую изобразили. А то терпеть не могу перед пустопорожней посудой сидеть.
Русские люди
Николай Иванович подсел ближе к жирному человеку и его спутнику, усачу, и, сказав: «Очень приятно за границей с русскими людьми встретиться», отрекомендовался и отрекомендовал жену.
– Коммерции советник и кавалер Бездоннов, – произнес в свою очередь жирный человек и, указывая на усача, прибавил: – А это вот господин переводчик и наш собственный адъютант.
– Граф Дмитрий Калинский, – назвался усач и, кивнув в свою очередь на жирного человека, сказал: – Взялся вот эту глыбу свозить в Париж на выставку и отцивилизовать, но цивилизации он у меня не поддался.
– Это что устриц-то жареных не ел? Так ты бы еще захотел, чтоб я лягушек маринованных глотал! – отвечал жирный человек.
– Выставку ругаешь!
– Не ругаю, а говорю, что не стоило из-за этого семи верст киселя есть ехать. Только-то и любопытно, что в поднебесье на Эйфелевой башне мы выпили и закусили, а остальное все видели и в Москве, на нашей Всероссийской выставке. Одно, что не в таком большом размере, так размер-то меня и раздражал. Ходишь, ходишь по какому-нибудь отделу, смотришь, смотришь на все одно и то же, даже плюнешь. Провалитесь вы совсем с вашими кожами или бархатами! Ведь все одно и то же, что у Ивана, что у Степана, что у Сидора, так зачем же целый огород витрин-то выставлять!
– Вот какой странный человек, – кивнул на жирного человека усач. – И все так. В Париже хлеб отличный, а он вдруг о московских калачах стосковался.
– Не странный, а самобытный. Я, брат, славянофил.
– Скажите, пожалуйста, земляк, где бы нам в Париже остановиться? – спросил жирного человека Николай Иванович. – Хотелось бы, чтоб у станции сесть на извозчика и сказать: пошел туда-то. Вы где останавливались?
– Не знаю, милостивый государь, не знаю. Никаких я улиц там не знаю. Это все он, адъютант мой.
– Останавливайтесь там, где впустят, – проговорил усач. – Как гостиница с свободными номерами попадется, так и останавливайтесь. Мы десять улиц околесили, пока нашли себе помещение. Занято, занято и занято.
– Глаша, слышишь? Вот происшествие-то! – отнесся Николай Иванович к жене. – По всему городу придется комнату искать. Беда!.. – покрутил он головой. – Особливо для того беда, у кого французский диалект такой, как у нас: на двоих три французских слова: бонжур, мерси да буар.
– Врешь, врешь! По-французски я слов больше знаю и даже говорить могу, – откликнулась Глафира Семеновна.
– Добре, кабы так. А вот помяни мое слово – приедем в Париж, и прильнет язык к гортани. А позвольте вас спросить: отсюда до Парижа без пересадки нас повезут? – обратился Николай Иванович к жирному человеку. – Очень уж я боюсь пересадки из вагона в вагон. Два раза мы таким манером перепутались и не туда попали.
– Ничего не знаю-с, решительно ничего. Вы графа спросите: он меня вез.
– Без пересадки, без пересадки. Ложитесь в спальном вагоне спать и спите до Парижа. В спальном вагоне вас и на французской границе таможенные чиновники не потревожат.
– Вот это отлично, вот это хорошо! Глаша, надо взять места в спальных вагонах.
– Позвольте-с, вы не телеграфировали?
– То есть как это?
– Не послали с дороги телеграмму, что вы желаете иметь места в спальном вагоне? Не послали, так мест не достанете.
– Глаша! Слышишь? Даже и спальные вагоны здесь по телеграмме! Ну, Неметчина! В Кенигсберге обедать не дали – подавай телеграмму, а здесь в спальный вагон без телеграммы не пустят.
– Такой уж порядок. Места в спальных вагонах приготовляют заранее по телеграммам…
– Позвольте… но в обыкновенных-то вагонах без телеграммы все-таки дозволят спать? – осведомился Николай Иванович.
– Конечно.
– Ну, слава богу. А я уж думал…
Звонок. Вошел железнодорожный сторож и прокричал что-то по-немецки, упоминая «Берлин». Усач засуетился.
– Допивай, Петр Никитич, рейнвейн-то. Надо в поезд садиться, – сказал он жирному человеку.
Тот залпом выпил стакан, отдулся и, поднимаясь, произнес:
– Только уж ты как хочешь, а в Берлине я ни на час не остановлюсь. В другой поезд – и в Белокаменную.
– Врешь, врешь. Нельзя. Надо же мне тебя берлинским немцам показать. И наконец, какое ты будешь иметь понятие о Европе, ежели ты Бисмарка не видал и берлинского пива не пил!
– На станции выпьем.
О проекте
О подписке
Другие проекты