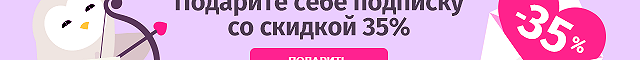
Глава 3
Меня нисколько не удивило, что юная Камилла Кармашек ничего не знала о восточном кладбище, хотя и работала в полиции. О нём вообще предпочитают не вспоминать с тех самых пор как в далёком две тысячи двадцатом возвели северо-западное кладбище – более аккуратное, ухоженное, не столь мрачное, отвечающее всем стандартам и самым современным на тот момент представлениям людей об убранстве кладбищ. Никаких огромных чёрных кованых ворот с горгульями, что приманивают ворон и откликаются зловещим скрипом чуть ли не на каждое дуновение ветра, никаких деревьев – ведь с них падает листва, которую потом убирать никто не станет; в общем, ничего лишнего. Только простор поля, покрытого зеленью травы и бесконечные ряды надгробий. Ах да, и расположение у северо-западного кладбища с точки зрения градостроительного зонирования, пожалуй, более удачное32. Оно находится на некотором удалении непосредственно от города. Для кладбища это явный плюс (и о чём вообще думали те, кто решил разместить восточное кладбище столь близко к жилому сектору). Хотя лично мне в этом смысле восточное, конечно, удобнее, поскольку находится гораздо ближе к дому.
На «востоке» похоронены почти все, кто был мне дорог, кого я любил всем сердцем, кого когда-либо знал. Ванесса, Роберт, отец и мать, Саша и Шарлотта, Пётр Бурдерски, Франк, Соломон Кальви Второй33 и многие другие. Мама вполне могла быть похоронена на «северо-западе», но она давным-давно, примерно через год после смерти отца, зарезервировала себе место рядом с ним и осталась верной своему решению до самого конца, даже когда восточное кладбище пришло в полнейшее запустение.
– Рядом с ним мне всё ни по чём, – так она говорила. Ничто не могло по-настоящему их разлучить. Смерть в том числе.
На «северо-западе» похоронены только двое – Скартл и Тори, да и то лишь потому, что тела так и не были найдены, а мёртвыми их признали спустя тринадцать лет после исчезновения, в две тысячи двадцатом девятом году получается, если я правильно посчитал. Шестнадцать плюс тринадцать – двадцать девять, да, всё верно.
Камилла ехала очень медленно и задавала много вопросов. От самых простых и общих, вроде «Как вам погода?», «Куда ехать дальше?», на которые я отвечал слишком подробно, до более острых, имеющих под собой явную, конкретную цель, как, к примеру, «Зачем вы напугали девушку?», «Что было не так с музыкой?», на которые я отвечал предельно кратко34.
Виды уродливого, изувеченного Ребеллиона пробудили во мне тоску35 по годам давно минувшей юности36. Предаваясь этим чувствам, я не сразу заметил, что Камилла везёт меня не на кладбище. Её молчание мне подсказало: она перестала спрашивать дорогу. Только тогда я опомнился и осознал, что пришла моя очередь задавать вопросы, на которые она не захочет отвечать.
– Куда мы едем? – то был первый вопрос.
– К восточному кладбищу, – ответила Камилла, поворачивая налево,
– Да ну бросьте. Вы дорогу не знаете, но я-то её знаю хорошо. Кого вы пытаетесь обмануть?
– Я и не обманываю. Мы правда едем на кладбище. По дороге заглянем кое-куда – и затем сразу на кладбище.
– Куда заглянем?
Она не ответила.
Путь от коммерческого квартала к восточному кладбищу пролегает через улицу Венеры и Розы – одну из самых протяжённых в Ребеллионе – заканчивающейся развилкой. Чтобы добраться до кладбища, нужно повернуть направо на развилке, проехать несколько метров до музея готики – чёрного здания, напоминающего храм, выполненного в одноимённом стиле, повернуть налево – а там уж дорога сама выведет к кладбищу. Но если повернуть налево на развилке, тогда после некоторых петляний по улицам чуть более тесным, можно оказаться у ворот психиатрической клиники имени Йостера Брифа, названной в честь поэта, упрятанного туда собственной женой в середине прошлого столетия. Здесь же дни свои закончил другой талантливый человек, которого я, в отличие от Брифа, знал лично, с кем был дружен в течение нескольких (не скажу, что многих) лет. И вид этого огромного серого здания, пожиравшего судьбы, не только пугал меня до дрожи, но и будил болезненные воспоминания, наполняя их силой, способной сокрушить меня.
Камилла остановилась у ворот клиники, повернулась ко мне и сказала:
– Я подумала вам стоит пройти хотя бы первичный осмотр.
– Вы, наверное, не слишком-то хорошо подумали, да? – ответил я.
– Или это или двое суток за решёткой. Выбирайте.
В камере изолятора было тесно, темно, холодно и мрачно. Однако я ничуть не сожалел о сделанном выборе. Глядя через единственное окно, маленькое, решётчатое, высоко расположенное, я ощущал всё сильнее разгорающееся желание навестить могилу Ванессы. Так, видимо, действует на меня заключение под стражу. Иначе как это объяснить? Да уж, знал бы раньше, давно бы напугал первую попавшуюся кассиршу.
От мысли этой мне стало смешно, и я, не в силах сдержаться, начал тихонько посмеиваться, сидя в углу. Люди вокруг, все гораздо моложе меня, болтали о всякой чепухе, но тут прервались и стали шептаться. Шёпот их напоминал мне насекомых, стрекочущих в ночной тишине. Потому я, не слишком заботясь о том, что они обо мне думают и захотят ли что-то со мной сделать, закинул ногу на ногу, прислонился к стене и надвинул шляпу на глаза.
Я пытался убедить себя, что мне нужно поспать. Хотя бы ради того, чтобы время пролетело быстрее. И вроде как я даже согласился сам с собой (а это случается не так уж часто), однако сознание моё, кажется, противилось, ибо в ответ на мои попытки провалиться в сон, порождало вихрь образов, звуков, слов, обрывков фраз и мелодий, удерживая меня от погружения во тьму полунебытия.
Время от времени мне удавалось прорваться, но лишь на нескольких коротких мгновений, после которых я, вздрагивая, возвращался обратно.
Все вещи по прибытии у меня, конечно, забрали. Включая букет гипсофилов. Я попросил Камиллу поставить их в воду, думая, что это, быть может, немного нагло с моей стороны, но вместе с тем надеясь на её человечность (или остатки человечности37). Она согласилась, и я сердечно благодарил эту суровую на вид молодую женщину со взглядом Афины, радуясь спасению столь значимого для меня предмета.
Каково же было моё разочарование, когда, выйдя из камеры, я обнаружил, что цветов больше нет.
– Простите, – сказала Камилла. – Должно быть уборщица от них избавилась. Вечно она так… Сгребает в мусорку всё подряд.
Я ничего на это не ответил, лишь спросил:
– Я могу идти?
– Да, конечно. Хотите подброшу?
– Нет уж, спасибо. Как-нибудь сам доберусь.
Мне вернули мои вещи (за исключением гипсофилов, разумеется), я накинул шарф, зашнуровал ботинки и вышел на улицу.
Накрапывал мелкий дождик. Серость неба глядела на меня со снисходительной жалостью и обещала не выпускать солнце в ближайшие часы. Я был очень уставшим, но вполне довольным. Воздух казался столь свежим и чистым, что не было большей радости, чем просто дышать – дышать жадно, полной грудью, до боли в сердце. Я даже решил немного пройтись, хотя собирался вызвать такси прямо к участку. Идти от центра города до кладбища – вряд ли я бы осилил такой путь.
Я не раскрывал зонта, держал его в руке, используя как трость, и двигался в сторону улицы Эллиотта Смита, стараясь сбросить с себя тягостные чувства, стереть их, как налипшую к подошвам грязь.
– Дайте дорогу! – услышал я за спиной бодрый выкрик и обернувшись через плечо, увидел двух мальчишек лет двадцати. Они тащили огромный кусок стекла и неслись с бешеной скоростью. Я едва успел сделать шаг в сторону, чтобы пропустить их. – Спасибо! – прокричал один из них, и они вмиг умчались прочь, скрывшись за поворотом.
Я вышел к улице Смита, вдоль которой тянулись цифровые деревья. Днём они вроде как украшали город38 а ночью ещё и освещали дорогу. Но одно из них, видимо, вышло из строя. Мужчина в тёмно-синей форме, подключив к дереву планшет, старался привести всё в норму. Я достал из кармана телефон, вызвал такси. Ждать пришлось совсем недолго. Примерно через полминуты ко мне подъехал жёлтый «батлер» (марка местного производства). Где-то вдали раздался звон разбитого стекла, загружалось цифровое дерево, пахло булочками и кофе из кафе неподалёку. Я сел в машину и отправился на восточное кладбище.
Мимо проносились здания, как проносится мимо жизнь, пока ты думаешь, что занят чем-то очень важным39. Серые и пёстрые, низкие и высокие, большие и маленькие, старые и новые. В каждом из них мне отчего-то виделось нечто большее, чем просто груда строительных материалов, собранных воедино в определённом порядке; мне виделись человеческие судьбы; всякий город есть сплетение этих самых судеб, не иначе, – судеб, отголоски которых видны и слышны повсюду. В каждом кирпиче таится трагедия, в каждом гвозде – нестерпимая боль. Шелест тростника поведает нам историю. Но все мы безымянный брадобрей, что слишком болтлив, и все мы Аполлон, что слишком горделив, мы – Мидас, что под тюрбаном прячет ослиные уши.
На пути возник музей готики. Волнение моё нарастало с каждой секундой, и не было ему предела.
Пару раз (а может и больше) я был готов изменить маршрут, уехать куда угодно, только не на встречу с прошлым. Но я сдерживал те порывы, зная, что это должно наконец случиться, что нельзя позволить себе повернуть назад.
Когда я вышел из машины и увидел хорошо знакомые мне ворота, искорёженные временем, мне стало чуточку легче. Когда я ступил на эту землю, пропитанную горечью людской доли, то вовсе почувствовал полное облегчение, какую-то пусть и постыдную, но всё-таки именно гармонию с этим предельно мрачным местом.
Дождь к тому моменту прекратился, но небо оставалось сплошь серым. Жирный ворон, что сидел на воротах, громко каркнул. Я снял шляпу, торжественно поклонился ему и лишь затем направился прямиком к Ванессе. Сквозь высокую траву, густые кустарники, чёрные, скрюченные деревья и разбитые надгробия. Я точно помнил, где находится её могила, словно бывал здесь каждый день.
В воздухе стоял запах мокрой травы40. Ветер выл, расшатывая небо, которое на крыльях своих, кружа, поддерживал один маленький (и вместе с тем жирный), но очень храбрый ворон. Я жалел, что не забежал в какой-нибудь магазинчик и не взял себе бутылочку бурбона41. Правда, из-за всего со мной случившегося за последние двое суток мне стало казаться, будто я не доберусь до кладбища, если по пути загляну куда-нибудь ещё.
От ворот по тропинке прямо, минуя десять рядов, я шёл – и воспоминания всё более тяжким грузом валились на моё сердце, как бы словно не давая дойти: вынырнув из болота прошлого, дотянувшись до меня своими мёртвыми, жуткого вида руками, стремились они утащить моё усталое тело на дно. Я, однако, был упрям и продолжал идти, пусть с каждым шагом это становилось труднее и труднее. Я повернул налево и вдалеке увидел статую Ванессы в полный рост, обвитую паутиной ясеневых ветвей. Она казалась почти живой. Того и гляди помчится мне навстречу.
«Нет уж, – говорил я сам себе (и, наверное, ей), – я должен сам проделать весь путь до конца».
Я шёл быстрее, я спешил, будто мог не успеть, будто случится что-то страшное, если я не успею. Я небрежно накинул шляпу на голову, перехватил зонт в левую руку и хватаясь за выступающие ветви, высоко поднимая ноги, немного наклонившись, двигался в сторону Ванессы.
Статуя росла, стал виден постамент, на котором она стояла. И когда я смог прочитать цифры и слова, что были на нём вырезаны, я остановился, и позволил себе отдышаться.
15.02.1996 – 20.08.2020
Yurenagara ashi o ukase
Yurenagara sora ni mi o yosete
Прежде я видел эту статую лишь на фото. Скульптор, которому я её заказал, присылал мне снимки из своей студии. Вживую она смотрится куда лучше. Несмотря на то, что время, как всегда, не поскупилось на жестокость: повсюду возникли трещины, сколы, некоторые места заросли мхом. Но в этом было своё особое очарование.
Идея установить памятник Ванессе вместо обычного надгробия возникла у меня сама собой, как нечто предельно естественное, иначе будто бы и нельзя было. Многим, правда, это в ту пору не очень понравилось. Люди говорили, что я пытаюсь тем самым загладить чувство вины, иные судачили о моём высокомерии и желании продемонстрировать своё превосходство. Отцу Ванессы42 мой замысел, однако, пришёлся по душе43, и мне этого было вполне достаточно, чтобы набраться решимости воплотить его в жизнь. Голоса всех прочих людей утратили силу, которой я сам же их наделил.
Воплощение идеи, замысла началось через год после смерти Ванессы и включало в себя, помимо прочего, множество дилемм, требующих решения. Сложнее всего пришлось с волосами.
«Какими они должны быть?» – спрашивал я себя в те дни.
В «золотой век» нашей любви у неё были длинные, до самых локтей, волосы. Когда мы расстались, она остригла их под каре. Я думал, будто в этом жесте есть некий символизм: прощание с прошлым, начало нового пути; но Ванесса всё отрицала, говорила, дескать, ей просто захотелось что-то в себе поменять, а волосы к переменам наиболее податливы. А я, помню, тогда ответил:
– Тебе так очень идёт. Ты не только стала ещё более прекрасной (хотя это, казалось, невозможно), но и обрела строгость безупречного стана античной богини44.
Мне сие слова вспомнились также во время работы над скульптурой. Ведь кроме волос необходимо было определиться с общим замыслом. А кроме того, что это будет статуя во весь рост, я больше ничего не знал.
Мысль изобразить Ванессу в образе Артемиды, Афины или Гекаты – первая из многих – виделась мне вполне привлекательной лишь около двух часов, по истечении которых я от неё отказался, боясь, что это приведёт к утрате индивидуальности той, чей образ я стремился увековечить.
В дальнейшем самые разные идеи являлись мне во сне и наяву, и все их я отвергал как несоответствующие намеченным принципам, либо слишком сложные в плане реализации. К примеру, я видел кошмар. Ванесса, облачённая в чёрное платье, блуждающая во тьме, бредёт неизвестно куда. В ушах у неё наушники, она танцует. За ней мчится свирепый, кровожадный монстр. Его не видно – лишь красные глаза, сверкая, разбавляют мрак, да время от времени раздаётся страшный, наводящий ужас рык. Монстр этот следует за Ванессой, он хочет её убить. Я бегу за ней, пытаюсь предупредить. Но она не слышит и не замечает меня, и я отчего-то не могу её догнать. Кончается всё тем, что мы втроём набредаем на тупик. С неба дождём начинает литься пламя. Ванесса кружится в танце – и растворяется в том дожде.
Проснулся я со стойким ощущением того, что замысел для статуи стоит почерпнуть из этого сна.
Много часов я потратил, размышляя, как можно увязать увиденное во сне с образом Ванессы и изображением её в виде статуи. Часы те были потрачены впустую. Я сдался. И принялся искать иной источник вдохновения.
Я нашёл его в прошлом, в одном-единственном дне, в коротком мгновении, когда мы впервые встретились.
Так статуя обрела свой законченный вид. Она изображала Ванессу в том же чёрном платье, которое столь сильно нравилось нам обоим, с длинными волосами и в наушниках. Провода тянулись от её ушей к левой руке, в которой она сжимала коробочку МП-3 плеера. Один наушник она держала в правой руке и, обнажив ухо, как бы прислушивалась к тому, кто пришёл её навестить.
Я сидел подле статуи, но молчал и даже не смотрел на неё. Не потому, что мне было нечего сказать и не потому, что было больно её видеть. Просто я довольствовался тем, что чувствовал её, знал, что она рядом. В этом холодном, не знающем ни скорби, ни пощады, ни сочувствия камне, впитавшем, казалось, всё, чем я дорожил и чего был лишён, скрывалось чувство – очень яркое, живое, но вместе с тем и чужеродное, словно забравшееся в меня извне, как какой-нибудь червь или паразит. То было не счастье, нет. Свой шанс на счастье я давно упустил; и не чувство радости или глубокого удовлетворения – до самого последнего вдоха я останусь печальным, мрачным, удручённым, подавленным; да и, наверное, даже не чувство это было вовсе, а скорее состояние. Прикоснувшись к статуе (а я к ней прикоснулся), я ощутил идеальную, предельно чистую Гармонию, к которой так долго и отчаянно стремился. В тот миг всё – во мне самом и окружающем меня мире – встало на свои места. Тревога и диссонанс, хаос45 покинули меня. Я подумал:
«Ещё одна причина, по которой стоило прийти сюда гораздо раньше».
Я тяжело дышал и рассматривал следы, которые оставили на влажной земле мои ботинки. Длинный путь был проделан мною от дома – места, где я жил, существовал, мирился с необходимостью долго пребывать в бытии – до кладбища – места, где властвует Смерть. В пути этом мне стало видеться олицетворение моего движения по дороге Жизни, что начиналось с события крайне печального.
О проекте
О подписке