Чтобы оказаться среди инопланетян, совсем необязательно лететь в космос, иногда для этого достаточно обратиться к событиям вполне земной истории. "Алая буква" показывает нам американскую колонию середины 17 века, населенную походу самыми страшными людьми, которых могла породить культура - пуританами. О том, до чего могут дойти люди в своей жестокости, рассказывает нам трагическая история жизни Гестер Прин.
Современному читателю, наверное, сложно будет понять весь ужас ситуации, в которой оказалась героиня книги. Мы слишком привыкли к гуманизму, неприкосновенности частной жизни, всему такому. А четыре сотни лет назад было "ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное", все, кому не лень, лезли в твою личную жизнь грязными руками и, прикрываясь напускным благочестием, предавали тебя суду, поруганию, позору, смерти, нужное подчеркнуть, устыдиться, пойти на костер.
Велико ли было преступление Гестер? С точки зрения века нашего, ей всего лишь хотелось любви в чужом краю. С точки зрения века того, она - ужасная прелюбодейка, достойная ненависти и презрения, вынужденная носить клеймо по гроб жизни.
Но вообще история довольно трагична.
Она о том, как под гнетом общественного мнения, жадного до зверств и демонстративно благопристойного при том, калечатся судьбы людей, попавших в жернова этой машины. Как люди, помешанные на религии, собственными руками создают дьяволов. Как человек превращается в безгласый символ - и это страшнее всего. Должны молчать и ходить, потупив взор, те, кто рожден для великих страстей. В мстительных гончих превращаются умные и благородные люди. Накал страстей в произведении таков, что подчас просто зашкаливает, но к моей печали, там практически отсутствует какое-либо действие.
"Алую букву" называют одним из основоположников мистики или даже ужасов, с чем я не могу согласиться. Это, скорее, психологический триллер, в котором нет абсолютно ничего мистического. Вся дьявольщина здесь имеет исключительно символические значение, но даже в таком виде она оказывает довольно сильное воздействие на читателя.
- Главная
- Литература 19 века
- ⭐️Натаниель Готорн
- 📚«Алая буква»

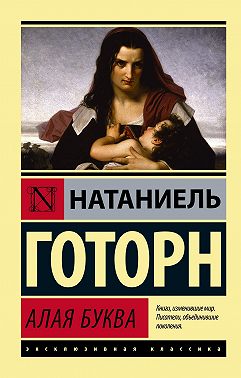
Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook
Стандарт
Алая буква
264 печатные страницы
Время чтения ≈ 7ч
2021 год
16+
Эта книга недоступна.
Узнать, почему«Алая буква» – самый известный из романов Натаниеля Готорна. Об этом романе спорили в гостиных всей Европы, а в России, вскоре после выхода, он был запрещен цензурой по личному приказу Николая I.
Красавица Эстер Принн, выданная замуж за сурового пуританского ученого намного старше ее, не смогла избавиться от чувств к молодому пастору – и изменила с ним мужу. Теперь она носит под сердцем плод этого греха, и вся ее дальнейшая судьба зависит от того, согласится ли законный супруг признать ребенка своим…
Если муж скажет правду, смерть покажется Эстер лучшим из наказаний. Но какую цену он заставит ее заплатить за спасительную ложь?..
В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.
читайте онлайн полную версию книги «Алая буква» автора Натаниель Готорн на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Алая буква» где угодно даже без интернета.
- Дата написания:
- 1 января 1850
- Объем:
- 476221
- Год издания:
- 2021
- Дата поступления:
- 4 октября 2021
- ISBN (EAN):
- 9785171362751
- Переводчик:
- Е. Осенева
- Время на чтение:
- 7 ч.
Поделиться
Deli
Оценил книгу
Поделиться
bumer2389
Оценил книгу
Или - пуританская мораль
Давно слышала об этой книге - с моим-то родом занятий. Но много крайне противоречивых отзывов слышала: и - скучно и затянуто (?), и - слишком страшно (???). Но знаю, что в Америке эта книга и ее персонажи считаются очень знаковыми...
Если вы не бросили в начале, вы - большой молодец и настоящий книгочей. Потому что вступительные страниц 40, если не 50 сэр Натаниэль - желает просто представиться, познакомиться и рассказать о себе. И рассказывает: как служил в таможне, как поживала его семья, какие нравы царили в его время. И читаешь с все угасающим вежливым интересом, когда он признается, что самое ценное, что он почерпнул из работы в таможне - старинная рукопись, завернутая в таинственный лоскут материи с вышитой на нем яркой буквой... Красивая легенда)
Автор и сам относится к представителям весьма почтенным - 19й век. Но поведет речь о временах и того древнее: одни из первых поселенцев и пуритан, заселяющие Бостон, штат Массачусетс. Здесь и развернется эта история веке в 17м, когда главная героиня Гестер (Хестер, Эстер - переводы)) Прин подвергается обвинению в адюльтере. Она приехала в Новый свет уже замужняя, потом, по классике, муженек уехал в поездку и растворился в закате, а она - понесла... Скандал, кошмар и алая буква А, клеймом отметившая ее дальнейшую жизнь. Меня позабавила фраза из описания "Довольно легкое наказание". Если в смысле "камнями не побили, ничего не отрубили" - тогда конечно. Но - стоит учитывать разницу веков. Это сейчас мы соседей порой едва видим, а любой скандал забывается дней через 7-10, унесенный более свежими новостями. Но в 17 веке люди и собрались в небольшое поселение, которое окружено лесом, индейскими стоянками и времянками охотников, чтобы быть вместе. А быть изгоем в таком поселении... Где все друг друга знают, и будут помнить "позор Гестер" - годы. А ей - предстоит с этим жить...
И это оказалось - самой лучшей частью. Потому что книга о проступке и вине претворилась в произведение - о силе воли. Гестер - живет. Рожает дочку Перл - жемчужинку ее жизни. Конечно, Перл растет, как маленький волчонок или эльфийский подменыш, что запускает в поселении слухи, что дитя не иначе нагуляно от самого дьявола. Но пуританские кумушки в накрахмаленных чепцах и юбках и их благовоспитанные отпрыски могут... сделать то, что им больше нравится.Автор словно сам слегка иронизирует над этим
Благообразные матроны, которые своими отнюдь не изящными телесами способны протолкаться поближе к эшафоту
Хотя и бросает ремарку, что в его время нравы - ее строже. Еще?
Так вот, Гестер в ее-то положении, когда алая буква жжет не меньше осуждающих взглядов, начинает - жить. Помогает беднякам - совершенно бескорыстно. Нет, не из-за позора - просто раньше ее особо и не замечали, а теперь к ней приковано пристальное внимание. Доказательством этого может послужить и то, что в "преступлении" вообще-то участвовали двое - но своего "подельника" Гестер так и не открыла. И лучшей сценой книги считаю буквальное противопоставление сломленного и уставшего священника и Гестер, призывающего его собраться и жить дальше. Я бы весь ее монолог в цитаты выносила - но надеюсь, что вы сами прочитаете) А помножьте на обильный, витиеватый и умилительно восхитительный стиль автора...
Я думала - будет больше мистических ноток. Но, видимо, это уже легенды, которыми обросла книга.
*"Ведьма" тут очень забавная - такая классическая американская старая карга)
Поэтому буду советовать - любителям классической литературы. Те, кто стоически выдерживает, когда книга делает ему прекрасное изо всех сил (порой даже слегка избыточно). Ну и - никогда не помешает здоровой мотивации и глотка свободы в нашей непростой жизни. Ведь ошибка - это не повод страдать и посыпать голову пеплом даже в обществе самых строгих нравов.
Поделиться
ShiDa
Оценил книгу
Классический американский роман 19 века, культовая книга из списка «обязательно прочти!», при жизни автора (и после) подвергавшаяся гонениям: ах, какая аморальная любовная история, падшая женщина, падший священник, как так можно, уважаемые, разве можно читать о таком приличным людям? Что интересно, Натаниэль Готорн своей «Алой буквой» и хотел высветить лицемерие современного ему общества, которое грешило себе и оправдывалось (как его герой священник), но не желало смотреть на свои пороки со стороны.
Многим нынче «Алая буква» не понравится – аннотация и обложка (и многим известная экранизация) обещают историю запретной любви в Новой Англии вопреки запретам консервативного большинства. Но как раз о любви в книге ни слова. Читателя ставят перед фактом: главная героиня Эстер согрешила с молодым священником, пока ее муж был в далеких Европах, плодом их близости стал ребенок, девочка, и отныне Эстер осуждена носить на платье алую букву А (по первой букве английского слова «прелюбодейка»). Как случилось, что порядочная, скромная замужняя женщина вступила в связь со своим духовником, Готорн не раскрывает. Была ли это любовь? Как она появилась? Или это было минутное ослепление страсти? Если попытаться оценить характеры виновников трагедии, начнет казаться, что главным... эм... инициатором неуставных отношений был священник – писатель описывает его как пылкого, впечатлительного человека. Эстер же слишком сдержанна и покорна, чтобы выступать соблазнителем. Оттого дальнейшее предстает двойной несправедливостью.
Увы, но именно на Эстер ложится клеймо позора. Ее... возлюбленный, уважаемый в обществе, благополучно избегает наказания. Из благородства Эстер не выдает, кто отец ее ребенка, возможно, ожидая от своего любовника добровольного признания. Но Эстер не учитывает, что священник слаб в сравнении с ней. Он может сколько угодно страдать в душе от совершенного греха, впадет в болезнь, но ни за что не признается, ни за что не унизит свой сан и самого себя. Его образ, трусливого и нерешительного мужчины, неприятно удивляет, и это на фоне терпеливой, сильной в своем достоинстве Эстер, которая переживает позор с высоко поднятой головой.
Отчасти Готорн написал гимн силе – и освобождению – женщины в жестоком мире. Он полностью на стороне женщины, она у него – героиня, она обретает невероятную по тем временам самостоятельность, она торжествует близ слабых, косных, способных лишь осуждать и лицемерить мужчин. Женственность у Готорна – какая-то неведомая природная сила, более земная, нежели мужская. Кроме уважения, Эстер ничего не заслуживает. Схожее уважение вызывает и книга, несмотря на некоторые устаревшие приемы и общую назидательность повествования. Готорн сумел – пожалуй, лучшие слова тут.
Поделиться
Автор книги
Переводчик
Другие книги переводчика
Подборки с этой книгой
О проекте
О подписке