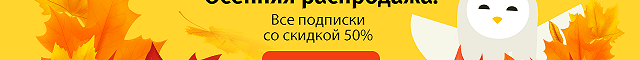
Но и само представление – это игра со смертью, забава по ее правилам. Анатолий Васильев любит пугающие аттракционы. Карточная, азартная игра в банк, с ее ожиданием (в настоящем, не сценическом времени), когда же выйдет нужная «девятка», и с этим духом последней интриги, а вместе и шулерского фокуса – а ведь на эту самую «даму пик» поставлена и человеческая жизнь! Арбенин, игрок (до мозга костей), демон игры, – он в родной стихии только за карточным столом – там он и царь и бог, жаль, достойного соперника не видно (ну да, это партнерша смерть так удачно спряталась снова под распечатанной колодой карт!)…
А вот слова Васильева, когда он вспоминает о действии сейчас, двадцать восемь лет спустя (в это время он находился в стационаре больницы, в которую вдруг загремел с двумя болезнями сразу):
Спектакль не работался на ситуативных структурах, ты ошибаешься, если так думаешь, – это диалоги, концептуальные диалоги. Параллельно на Поварской во время репетиций «Маскарада» был сыгран вечер диалогов на пятилетие театра, 24 февраля, я не прилетел из‐за стажа. Именно в тот вечер были сыграны: Платон, «Государство» с Владимиром Лавровым, ты видела, и Томас Манн с Ларисой Толмачевой, а также Достоевский, которого я никогда не показывал, с Чиндяйкиным… Вся работа над «Маскарадом» вышла из диалогов с Казариным, но из‐за того, что актер изо дня в день кончался (проклятый спид!), я не сделал до конца эти диалоги и затем их купировал. Нет, ты можешь очень круто ошибиться, не зная предыстории и самого предмета. В чем же он? В антиномии: паражизнь – метафизика. Поскольку русская метафизическая драма всегда «перемешана» и в ней всегда присутствует крутая жизнь фигур, то психика просачивается низбежно сквозь концепт и заявляет о ситуативности… Ну а сами эти диалоги двух игроков, которыми прошита вся ткань пьесы, звучат, к примеру, так: «Арбенин: Вам надо испытать, ощупать беспристрастно / Свои способности и душу: по частям / Их разобрать… Казарин: Что ни толкуй Волтер или Декарт – / Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю, / И правила игры я к людям применяю»… В итоговом сценическом варианте «Маскарада» обе эти фигуры по существу скатились вместе ртутными шариками, слившись в образе Арбенина, чтобы в эпилоге снова раскатиться по разные стороны (в пугающее и гротескное двойничество теряющего рассудок Арбенина и фантома-преследователя Неизвестного)… «Имя это впервые появляется на французской сцене в 1992‐м году, а в последний раз в 2018‐м, с этим именем я и ухожу со сцены» (Васильев. Из «Записок неизвестного режиссера»).
Но какой же красоты и убедительности получился спектакль! И как – по прошествии времени – все видится иначе… Потому что был потом у Васильева и чеховский «Рассказ неизвестного человека», ну и, конечно, «Дау»… Вспоминается еще одна игра с куклами и автоматами – это его «Тереза-философ» в «Одеоне», где для Валери ироничная роль была выстроена на вербальных структурах. Однако же все автоматы и игрушки в «Терезе» – автоматы веселые (потому что порнография довольно холодна внутри – но сама-то функция игрушек более радостная, «плезирная»). Внутренний же вектор «Терезы» для меня прямо противоположен – в игре выигрывает женщина – и она уходит на сторону жизни. Через женщину все меряется и вознаграждается… Там-то любовь вполне нашлась – и всё прикрыла краешком своего платья. А вот в Лермонтове и Чехове (как их прочитал режиссер Анатолий Васильев) центральный персонаж – игрок, и он играет со смертью (как в «Седьмой печати» у Бергмана), разве что – за неимением достойного соперника – еще и за саму Смерть, от ее лица…
Здесь, в «Маскараде», внутри лабиринта действия постепенно обнажаются непреодолимые, демонические силы. Ведущие свою родословную буквально от лермонтовского «Демона». Тут просматриваются все измерения: и тонкая, вывязанная бисерным плетением психология, и невероятная визуальная красота, и чистая метафизика диалогов… Но еще, в дополнение к этому – как ни странно (хотя чего уж странного, если искать переклички с последним спектаклем Мейерхольда) – соединение с нашей историей, русской историей, этой страшной судьбой, которая ведет свой, отдельный счет в этой игре. Рок, но не просто трагедия запутавшихся людей – одновременно и трагедия народа, нации… Признаться, я не ожидала, что проступит именно эта сторона. А она очень видна под лупой времени, как раз на поверхности телеэкрана… Вот это понимание суда Божьего, вплетенного в кровавую раму страны…
И я не имею в виду противостояние Арбенина как романтического героя обезличенному, конформистскому обществу. Скорее видна безнадега, вот эта погребенность под слоями земли, что чуть прикрыты досками, под слоями разбитого стекла, под разводами крови – как в «Дау» (в Институте внутри его «Империи»), – из которых нет выхода. Потому что под таким углом – меняется и сама рама, в которую вписано действие. Не просто тонкое понимание человеков (стоящих пред оком Бога), но понимание еще и судьбы страны (пред тем же оком Божьим). Вся наша история в ее лермонтовском изводе – то есть взятая под знаком Рока и свободы… А вот метод постижения тут чисто васильевский – это свобода, о которой скажет в недавнем своем интервью Валери Древиль… (отсюда – насущная необходимость школы этюда, спонтанности, почти болезненного внимания к индивидуальности, к внутренней натуре актера). Того, кто играет? Нет, не так. К персоне! Того, кто участвует в действии. В своей жизни и в чем-то большем… В своей жизни, в искусстве, в общей судьбе.
Сейчас становится очевидным, насколько сложно задуман Арбенин. Он идет для Анатолия Васильева внутри какой-то очень важной линии его представлений о вселенной – и об истории: это лермонтовский Демон – Арбенин – Неизвестный (из новеллы Чехова) – Директор Института Крупица (пожалуй, и Медея Хайнера Мюллера, которая по самой сути своей – «ни женщина, ни мужчина»)… «Обсидиановый нож», как сказал недавно мой приятель по иному поводу. Не железный, нет, из другого материала, более древний. Рассекает так же отлично, как сталь. Ломкий и острый камень. Этот нож не против другого, не против любимого человека (хотя только любовь разрешит подойти на расстояние достаточно близкое для ножа), даже не против конкретного общества. Этот нож направлен против мироздания в целом!..
Да, речь идет именно о концепте, о том, что это вовсе не история психологических отношений, хотя Нина вполне чувственна, вполне ранима. Валери прекрасно развернула, раскрыла свою героиню (с ее «девчачьим» кокетством перед Князем – и до трагического умирания, до размазанной синей туши, которой она плачет, до этой души, которая отрывается от тела, встает и как бы медленно выходит в дверной проем ложи бенуара). Через Нину (как через женский персонаж) можно увидеть прежде всего чувственную стихию – и только в последнем диалоге с Арбениным она входит наконец в концептуальные построения. (Еще от древних греков, от пифагорейцев: женское/влажное – мужское/сухое; женское скорее как душа (ψυχή), а мужское как дух (πνεύμα), хотя они и переплетены, и соединены…) В эпилоге Нина, как эта вечная мировая душа, так и останется немым свидетелем сидеть и смотреть на происходящее – совсем как мертвая Зинаида Федоровна выслушивает последние признания героев в Чехове… Арбенин воплощает иную сущность, он и находится в ином, подлунном мире, это там он наматывает круги диалога вокруг своей жертвы и любимой, едва успевая пригибаться в арках, яростно проезжая сквозь них в своем инвалидном кресле… Как черный коршун, – да нет, как Мефистофель, любящий и ученых схоластов, и алхимические опыты, и игру… И все-таки это не чистое Зло как противоположный Добру математический знак. Это скорее любопытствующий, недоумевающий, испытующий дух, который всегда жесток. Как жесток революционер или художник. Он ведь всегда останется террористом по отношению к наличной действительности… И сам спектакль, хоть и отталкивался от психологических структур и мотивов, укоренялся в них, в последнем диалоге явственно выходит за их пределы. Та сценография, которую придумал и вытребовал себе постановщик, и те костюмы и маски, и те дыры в полу, и тот «карточный» характер Игрока – это все нужно было для чего-то большего.
Арбенину хочется «проверить», «испытать» мироздание – а вовсе не только Нину, как бы попробовав на зуб чистоту ее любви и свет ее смерти… Внутри своей физической лаборатории, как алхимику, ему хочется посмотреть: а нельзя ли переменить все устройство вселенной, саму человеческую природу, если уж она явно недоделана? Или же сделана недостаточно хорошо? Я вспомнила, как Неизвестный в постановке по Чехову собирает в сетку-авоську стекло (пустые, распитые бутылки), чтобы потом превратить его в символическую фигуру Генерала, тайного советника – да потом и взорвать его к чертовой матери…
Естествоиспытатель! Испытатель естества: как из него получить, силой выжать дух? Как получить его возгонкой не из жалости или сострадания, а внутри вот такого пристального наблюдения художника?.. Где жалость и любовь заранее сублимированы – или же употребляются как инструменты: как щипцы, которыми тягают расплавленный металл, как масонский молоток, как алхимический тигель. Чтобы вначале посмотреть – а потом выжечь лишнее… И еще одна вещь: в том, что Арто звал «жестокостью», а я зову страстью, иногда заложен очень мощный импульс – любви, страстного, мучительного милосердия… Болезненного сострадания? Короче – преобразованной чувственности. Трансформированной… Она более верна, что ли… куда более точна, чем то, что просто подарено природой…
Я помню, как всегда удивлялась, что Васильева называют неоклассиком (видимо, из‐за его перфекционизма, а также любви к Античности, к белому цвету, к чистым линиям). Он-то, конечно, неоромантик! Ему с Пушкиным легче, но сердечное влечение, иррациональное – пожалуй, подтягивает его как раз к Лермонтову…
Но как бы то ни было, эта постановка во многом осталась для самого режиссера Анатолия Васильева воспоминанием о тяжелой травме: на премьере французская критика разнесла «Маскарад» полностью и единодушно, французская публика поодиночке вставала и выходила из зала со словами – «стыд!», дружно орала с галерей – «merde!»… Притом что это один из самых цельных и ясных, самых прозрачных его спектаклей, как я это увидела сейчас… Но французы очень тяжело отлипают от театра не-рутинного, не-риторического… Вот понадобилось почти тридцать лет, чтобы «Маскарад» был причислен к лучшим, магистральным постановкам «Комеди Франсез». Ну что же! Тут напрямую прочитывается и печальная миссия французской критики, которая в большинстве своем исключительно консервативна и эстетически развита, да и в целом – недалёка: особенно те рецензенты, что предпочитают по приглашениям ходить в эту самую «Комеди Франсез» на премьеры и фуршеты (как, впрочем, и русская критическая команда нынешнего поколения, по мнению Васильева, уже безнадежно прикормленная двумя МХАТами – на Тверском и в Камергерском)…
«В Москве два МХАТа – старый и новый! И оба каменные!» (Васильев. Капитан Лебядкин из «Параутопии»).
Правда, тут сказывается и разница тишины (паузы), разница языка, разница культур: интонации, которых добивался режиссер, – это интонации вполне русские, вовсе не просторечные, даже аристократические, но и другие, очень отличные от французской банализованной светскости… Ну а переводчик Андре Маркóвич совсем недавно, уже спустя чуть ли не тридцать лет так высказался в своих публичных фейсбучных записях: «„Чужие, или Иностранцы в доме Мольера“. Так Мишель Курно (Michel Cournot) назвал свою газетную статью в „Монде“, чтобы уж наверняка уничтожить нас, иностранцев, то есть Васильева и Маркóвича. Я никогда так и не простил ему этих слов, я никогда в жизни даже не заговаривал с ним снова, но, как я признал потом в своей заметке 2015 года, Курно по сути был прав. Мы чужие здесь… и даже то, как я перевожу, так и осталось здесь чужим».
И в заключение – слова о Жан-Люке Бутте из письма Валери – письма, полученного опять же совсем недавно, уже после онлайнового показа:
Затем однажды вспыхнула какая-то искра, и он явил вдруг сияющий, огненный образ Арбенина.
Мы были очень близки.
Друзья? – да нет, не особо. Он произвел на меня глубокое впечатление, оставаясь при этом очень скромным.
Но работа этюдом уже… как бы это сказать? Заставила нас встретиться, заставила сблизиться.
А что там было между нами? – была любовь, конечно, но не любовь по жизни, а любовь артистическая…
В последний день представления «Маскарада» он выставил всем выпивку и произнес речь в мою честь.
Это был его способ остаться рядом со мной и явным образом показать мне это – я ведь уже сообщила всем, что ухожу из «Комеди Франсез»… Чувствовалось, что мои товарищи почти сразу же стали со мной заметно холоднее.
И в тот вечер, после последнего представления, после прощального стаканчика вместе со всей нашей командой, я забрала вещи из своей гримерки и покинула этот театр.
Я никогда больше не видела Жан-Люка, он умер полтора года спустя. (Из письма Валери Древиль автору книги.)
Ну а Валери… она уехала в Россию, в театр «Школа драматического искусства», для нее открылась совершенно новая творческая жизнь… В Москве, куда она так и продолжала приезжать к мастеру, в конце концов началась ее работа над спектаклем-мистерией «МедеяМатериал» Хайнера Мюллера.
О проекте
О подписке