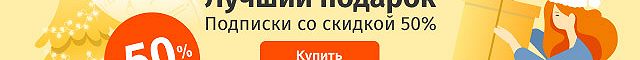
Два года он чинит верхние жилы после войны, скрепляет Потоки, латает разрывы между Явью и Неявью – и всё это время весна приходит как будто нехотя. Поздно, вялая, без силы, без тех первых голосов, что звенят в ручьях и пробуждают семена.
Не отсутствие – промедление. Не зима держит, а сама весна словно не спешит возвращаться.
Велемир считает: после войны такое бывает. Мир выправится, когда иссякнут раны Потоков. Но иногда он ловит странное чувство: невидимая рука удерживает весну, не даёт ей спешить. Потоки тихо играют по дому, жилы под полом гудят ровно, спокойно, а где-то в глубине ощущается лёгкое сопротивление – не холодом и не усталостью, а чужой силой. Кажется, весна задержана там, где зимняя энергия удерживает её – в колодце или глубине земли, как учат старые предания. И чем дольше он наблюдает, тем сильнее ощущение, что за этим сопротивлением скрыто что-то живое, что знает весну лучше, чем кто-либо другой. Что-то, что может быть рядом, но пока остаётся невидимым, почти шепчет миру, как направлять Потоки, чтобы всё было правильно.
Два года работы – и всё равно весна приходит с задержкой. Он чинит жилы, скрепляет Потоки, латает разрывы – и не отступает. Время, думает он, расставит всё на свои места. И, может быть, когда придёт момент, он поймёт, кто или что удерживает дыхание весны и зачем.
– Значит, всё‑таки случилось, – шепчет он. – Придётся разобраться.
Где‑то за ветвями, в тени, Ядвига едва удерживается, чтобы не зашипеть.
Лес выбрал сторону. И не её.
Велемир шагает в сторону Города, что люди зовут Градом – туда, где за каменными стенами хранит память древняя Библиотека. Он знает: если где и осталось знание, способное объяснить случившееся, то там – среди пыльных фолиантов, где книги шепчут, а чернила живут своей жизнью.
Но в глубине Леса, за его спиной, как и в глубине его сердца, всё ещё звучит отголоском: «Не к тебе…»
Дан, стянув сапоги, садится прямо на пол у камина.
Тепло ровное, но чужое – будто не греет, а наблюдает.
– Не дом, а показуха, – бормочет он, глядя на золочёный обод зеркала. – Всё блестит, а дышать нечем.
Огонь лениво лижет полено – и в его вспышке мелькает лицо Бабы-яги.
Дан вспоминает ту ночь, когда выбрался из дупла каштана, обратился человеком и направился к избушке Бабы‑яги.
Избушка стояла на опушке так, словно её швырнули сюда с размаху: одна куриная нога увязла в болоте, другая упёрлась в сухой бугорок. Курьи ножки живут своей жизнью – то сжимаются, будто втягивая когти, то медленно вытягиваются, испытывая почву под собой. Они не просто удерживают избушку: врастают в землю, чутко улавливая пульсацию двух миров. Одни цепляются за Явь, будто не желая отпускать, другие уже глубоко проникли в сумрак Неяви, впитывая её ледяной шёпот.
Скрипучая дверь была приоткрыта. На самом пороге лежал пряник – будто оставленный знак, приглашение или испытание.
Она встретила его ласково – улыбкой, в которой слишком много зубов. Словно родича: стол накрыт, ковёр под ногами мягкий, двери сами отворяются. Баба-яга не старая – древняя. Лицо Бабы-яги менялось беспрестанно: то являло черты молодой женщины с острыми, словно высеченными из камня скулами, то превращается в лик древней старухи с горящими, как уголья, глазами. Стены увешаны пучками трав, на полках – банки с глазами. В углу – прялка, но ни нити, ни веретена. Только тень, дрожащая в полумраке.
Ученица её, Ядвига Морена, стояла у стены, глаза как лёд, слова мягкие. Кубок подносила: вино мерцало, живое, шептало – пей, и станет легче дышать. Но Дан чувствовал: звало не к утолению жажды – звало к покорности.
– Откушай, – шептала Яга. Вино вспыхнуло – то ли светом, то ли пламенем.
Он не выпил. Поставил чашу на стол, не пригубив.
– Я не гость, чтоб пить из чужой чаши, – решил спокойно.
В тот же миг ковёр под ногами задрожал, словно живой; стены вздохнули, и с пола полез холод. Ядвига незаметно повела рукой над ковром: пол под Даном едва сдвинулся. Он понял – слишком поздно. Цепи обвились вокруг запястья, но не металл, а вязь лжи, обещаний, ласковых слов – того, чему он поверил. Поток вокруг хрипел, не желая отпускать: уйти из воли Бабы-яги так просто нельзя.
Луна стояла не в той фазе, или духи её не послушали, а он успел. Выдернул себя из чужого Потока, как занозу, – с болью. Позже, когда Лес стих, он долго стоял у ручья, отхаркивая кровь. Вдогонку Ядвига его прокляла, обещая встречи во снах каждую ночь. Вода пахла дымом, но отражала луну, будто знала: теперь он свободен. Хвалила его.
Воспитавшая его жена Городничего, Затейница сказала просто: «Твой приход, Данюша, есть отпуск для Ратибора. Раз Поток позволяет тебе гулять, возьми на себя обязанности Ратибора на его отпуск.» Оба, что Городничий Ратибор, что его жена, духи, давно хранящие покой Города и Равновесие, но он ходит в образе взрослого мужчины сорока лет, а она не устаёт молодится и блистать – возрастом двадцати пяти лет.» – хотя Дан сам не догадывается о своей избранности: куда он хочет, туда и идёт. На одном месте он насиделся в Лесу, заслон поддерживал, пока три года завершалась война, а раз закончилась, он может ходить куда решил. Как ему заблагорассудится.
И вот в Городе он получает шанс действовать в Яви – в мире, где деревья растут, земля пахнет прелой листвой, где ветер и ручьи слышны и осязаемы.
Поток на него не давил, но оставаться в каштане было необходимо – держать заслон, не дать трещинам расшириться. Но свобода условна: Дан не умеет управлять Потоком, не знает законов скрытого влияния. Любое неверное движение может нарушить узор жизни.
Хотя он прекрасно понимает, почему пришёл – не ради службы, не ради славы, а просто чтобы не жить у Бабы-яги в подвале на цепи. Чтобы дышать самому, без чужих приказов.
Сидеть в дупле было безопасно: Поток «принял» его там, ошибки оставались личными, а лес страдал меньше. Выйти наружу – значит действовать под наблюдением невидимых нитей, где даже неумышленная шалость может быть расценена как нарушение. К тому же существуют городские правила: ведьмы, служки и домовые следят, чтобы Поток не использовали для обмана или вреда.
Но Поток слушает его – тихо, без слов, будто узнает в нём своё отражение. И, может быть, поэтому именно ему доверили место Ратибора: не за силу, а за способность не разрушать.
И всё же Дан принимает эту ношу – не ради власти, не из страха, а из того же упрямства, что когда‑то спасло его из лап Бабы-яги. Он не бросается исправлять мир, а выбирает тихое служение: учится осторожности, изучает Поток, готовится
действовать без угрозы разрушить себя и лес. Он не является признанным Хранителем – никто не вручает ему знаков власти, не призывает в круг. Но Поток принимает его так, как принимает реку в русло: без слов, без условий. И пока Дан жил в дупле, равновесие держалось— мир дышал ровнее.
Такова была его служба: он поставил заслон, и лес остался цел. Защитил. И лес, живущий веками, знал – он в долгу перед ним. Дупло стало для него убежищем и школой. Здесь, в тишине и сдержанности, он сохранял равновесие – не создавал, а поддерживал его своим присутствием. Без него Потоки текли бы беспорядочно: узор жизни дрогнул бы, ветер потерял бы направление, а ручьи – свой путь.
Дан выдыхает, ведёт рукой по лицу. Лес вокруг является Явью, но для него теперь это становится местом выбора, а не узора, в котором он лишь существует. Каждый шаг даётся трудом, каждый вздох – вниманием, ведь Поток позволяет ему временно быть частью этого мира, а не наблюдателем.
Чем занимается его мать-Весенница, интересно? Весна, что в этом, что в прошлом году приходила усталая, что и не Весна вовсе. По коже на этих мыслях бегут мурашки.
– Не дом, а показуха, – повторяет тихо. – Тепло, да чужое.
Огонь в печи будто соглашается: вспыхивает и притихает.
В ответ где‑то в буфете что‑то звякает. Сначала тихо, потом громче – будто ложка возмущённо вторит.
Дан не дёргается, только прищуривается.
– А, это ты, – говорит спокойно. – Вылазь, чего прячешься?
Из‑за ножки стола, трепеща, выкатывается дух‑проказник – не комок пыли, а живой сгусток воздуха. Он втягивается, хлопает по полу и обращается крошечным человечком бессрочного возраста: на голове – перекошенная шапчонка, глаза – словно две блестящие бусины.
– А чего это я прячусь? – фыркает он. – Сам пришёл, сапогами натоптал, а я, значит, виноват!
– Не сердись, – усмехается Дан. – Я не хозяин. Гость. Меня зовут Дан.
– Не знаю, – бурчит Барабашка, почёсывая нос. – Хозяина‑то чуял. Тянет от тебя – как от старого корня. Взгляд у тебя странный – зелень с золотом мешается, будто в двух глазах разное солнце играет. Никогда такого не видывал. Не врёшь ли?
– Нет, – отвечает Дан просто. – Лесная тишина за мной ходит. Привыкла.
Пауза висит короткая, настороженная. Потом Барабашка хмыкает, молчит и бурчит:
– Ну, коли не буянить пришёл, тогда ладно. Только порядок у меня свой. Ночью я шумлю. Скучно мне без проказ‑то, вот и нахожу себе забавы – то по половицам постучу, то в углу зашепчу, то тенью метнусь туда‑сюда. Без шума и веселья жизнь – не жизнь вовсе!
– Шуметь можешь, – кивает Дан, – но без щекотки и щипков, а не то отправлю прохлаждаться в болото – на уроки вежливости. Давай‑ка лучше вместе Городские правила почитаем. Ты, конечно, читаешь не по‑человечески, зато сможешь распознать имена духов и ухватить суть ключевых понятий, ощутить силу печатей и оговорок. Меня‑то Ратибор читать научил, а вот в тонкостях правил я пока путаюсь – помоги разобраться.
Барабашка настораживается, уши его дёргаются.
– Читать? Это что ж, вместе?
Дан тянется к сумке и достаёт подтрёпанную книжку.
– Пару минут назад ты обмолвился о скуке? Вот. Читаем. Городская Уставная Книга. По ней живут городские жители, ведьмы‑ремесленницы, слъяужки храмов, домовые, сторожа мостов. Затейница дала мне экземпляр.
Дан осторожно кладёт тяжёлую книгу на стол. Переплёт – тёмная кожа с медными заклёпками, углы потрёпаны, будто её не раз вытаскивали в спешке. Страницы – грубая бумага, желтоватая от времени, с неровными краями. По полям идут приписки чернилами разных оттенков, а кое‑где – едва заметные знаки, светящиеся при определённом угле света.
Он медленно раскрывает книгу. На первой странице – печать воском, треснувшая посередине, и надпись витиеватым почерком: «Утверждено на совете хранителей семи перекрёстков».
– Это не просто свод правил, – раздаётся голос из угла. Барабашка выбирается из‑за шкафа, отряхивает серый кафтан и подходит ближе. – Это договор. Между теми, кто видит, и теми, кто предпочитает не замечать, – Объясняет Барабашка.
Дан переворачивает лист. Оглавление притягивает взгляд: «О полномочиях Городничего и пределах его ведения»; «О хранении границ между явным и скрытым»; «О наказании за возмущение Потока»; «О дозволении чар на благо общины»; «О праве на обет молчания»; «О покровительстве домовых и духах‑хранителях»; «О ведении счёта долгов живых и мёртвых»;
Каждая строка будто пульсирует, словно под ней скрывается второе, нечитаемое обычным глазом значение.
– А это что за раздел? – Дан тычет пальцем в первую строку.
– Ах, Городничий… – Барабашка ухмыляется, поправляя колпак. – Вот где всё хитро завязано. Слушай.
Он листает книгу, находит нужную страницу и стучит по ней когтем:
– «О полномочиях Городничего…» Значит, так: Городничий – не просто начальник стражи. Он – держатель городских узлов. Видишь эти знаки на полях? – он указывает на едва заметные руны вдоль текста. – Они меняются, когда он на посту. Если Городничий в порядке – и город в порядке. Если он ослабил хватку – тут и трещины пойдут.
– То есть он… управляет Потоком? – Дан хмурится.
– Не совсем. Он не колдует, не заклинает. Он следит. Как механик за часами: подкручивает, проверяет, чинит мелкие поломки. Например, если туман начинает ползти не туда – он бросает соль с золой в нужный колодец. Если ветер сбивается с пути – чертит знак на перекрёстке. Всё по инструкции, всё по книге.
– Но почему тогда он не решает большие проблемы? Почему не остановит то, что сейчас происходит с Весной?
Барабашка понижает голос:
– Потому что его власть – в поддержании. Он не может переписать правила, не может изменить суть. Он лишь держит то, что уже есть. И если кто‑то намеренно рвёт Поток – Городничий увидит трещину, но не всегда поймёт, кто её сделал.
– А если он покинет пост?
– Тогда город начнёт рассыпаться. Фонари погаснут, границы размоются, духи выйдут из укрытий. Но он не уйдёт. Не может. Его место – здесь. Всегда.
Дан проводит пальцем по строке «О полномочиях…». Буквы на миг теплеют, будто отзываются на прикосновение.
– Значит, он… часть механизма?
– Точно. Как шестерёнка. Важная, нужная, но – не вся машина. Он не создатель, не судья. Он – хранитель этого куска реальности. И пока он на месте, город держится.
За окном снова раздаётся звон – далёкий, будто ударяют в невидимый колокол. Барабашка резко закрывает книгу. Печать на обложке вспыхивает багровым.
– На сегодня хватит. Ты ещё не всё можешь прочесть. Некоторые строки открываются только тем, кто уже слышал голос Потока.
Дан проводит рукой по обложке. Под пальцами ощущаются шрамы – следы старых печатей, стёртых и наложенных заново.
– Значит, это не правила, – тихо говорит он. – Это… предупреждение.
Барабашка кивает, поправляя сбившийся набок колпак:
– И напоминание. Город стоит, пока мы помним, где проходят границы.
– Надо разобраться, – произносит он, – чтоб не опростоволоситься. Барабашка, Вместе, – говорит серьёзно Дан. – И не только читать. Телекинез попробуем.
– Это что за зверь? – спрашивает подозрительно тот.
– Камешек сдвинуть взглядом. Чашку – мыслью. Легче, чем ворчать.
Барабашка почёсывает затылок, потом прыскает смехом:
– Эка дожил! Барабашка, значит, магию учить будет!
Дан усмехается и, чуть склонив голову, добавляет:
– Тебе, поди, скучно тут одному. Хочешь – помогай огороднику али поварятам. Дел много, рук не хватает. Приноси другим пользу. Заодно, глядишь, не до скуки будет.
Барабашка моргает, будто не ожидает такого предложения, потом хмыкает довольный:
– А ты с хитринкой, гость. Это я люблю.
Дан улыбается краешком губ:
– По согласию, – говорит он. – Ты мне – тишину держи. А я тебе – чтоб никто не гнал. И чтоб Затейница довольна оставалась.
Барабашка важно кивает, будто клятву принял.
Сверху тихо, едва слышно, звякают стёкла – знак, что дом признаёт договор.
Дан поднимает глаза на потолок, где между балками поблёскивает тонкая паутина.
– Только бы без книжных кикимор, – бормочет он. – А то ещё шишига сон наведёт, а Лесавка начнёт выпендриваться.
Он тянется, зевает и, облокотившись на печь, добавляет, будто сам себе:
– Ратибор просит помочь библиотеке. Говорит, у них там непотребство: Топорница в разнос пошла. По его словам, Топорница – страж старого договора, хранительница Рубежа, границы между живым и мёртвым, между лесным и людским. Когда‑то она была человеком – кузнецовой дочкой, мастером по дереву.
За то, что могла срезать лишнее и оставить сердцевину, её прозвали Топорницей.
Но после древнего пожара согласилась на сделку – стать человеком‑ключом, впаянным в Поток. С тех пор её душа – часть самой Библиотеки. Сидит где‑то в «корнях» здания, где сходятся все потоки знаний и памяти.
Он хмыкает.
– А Затейница просит выручить. У них, видишь ли, билеты в круиз, чемоданы платьями ломятся. Ну а я, по её словам, тот самый «избранный». Значит, с Топорницей мне и вести переговоры. По мне – небылица.
Барабашка, сидевший на лавке, скривился:
– Неведомо мне. Затейница порой что ляпнет – потом разгребайся. Я от этих дел подальше держусь. И тебе советую.
– Вот и я согласен, – усмехается Дан. – Всё это хлопоты. Но раз Городничий приютил – в долгу не останусь.
Надо в книге глянуть, что этой Топорнице надобно. Может, обида какая древняя, может, с Потоками переплелась.
Он поднимается, стряхивает с ладоней пыль.
– Эх, дел прибавляется. Придётся с чернильной нечистью разбираться.
Барабашка фыркает, жужжит, как сердитая муха:
– Гляди, чтоб она тебя не перечитала. Эти книжные – хитрее ведьмы.
Он косится на огонь в печи, потом снова на Дана и бурчит с уважением:
– Ну, коли решился – вижу, не свернёшь. Только, гость, смотри… Рубеж старый шуток не любит.
Дан усмехается, чувствует в груди непривычное волнение. С тех пор как он держал Заслон в Лесу, всё изменилось: опасность больше не пугает – будит любопытство. Теперь каждый шаг к Рубежу кажется не угрозой, а вызовом, каждый знак – загадкой, которую хочется разгадать.
– Не впервой, – отвечает он спокойно. – Зато я понимаю: там, где другие видят преграду, можно найти дверь.
Дом тихо вздыхает, будто подтверждая его слова.
Атмосфера старинной библиотеки давит на плечи, словно тяжёлые своды вот‑вот рухнут.
Полки шепчутся, сторонятся; книги сами прячут страницы, боясь взгляда. Запах пыли и старого клея смешался с болотной сыростью – след Топорницы висит в воздухе, как затхлый пар над прудом.
Дан – стоит в центре читального зала. Вокруг валяются искромсанные фолианты, обугленные листы – будто кто‑то дрался с самой памятью.
Потоки вьются вокруг него – тревожные, звенящие, – и сила под кожей ноет, требуя выхода.
Из‑за шкафа доносится хрип – тяжёлый, будто топор врезается в плоть дерева. Сначала показывается рука – из почерневшего дуба, иссечённая, прожжённая, испачканная смолой. Потом – лицо: женское, половина живое, половина деревянное. Глаза – два уголька, мерцающие изнутри. Волосы спутаны, в них запутались страницы и корешки книг.
Вот она – Топорница, страж старого договора. Та, что должна была хранить Рубеж.
Она хрипит, как раненое дерево:
– Я рубила… Рубеж держала… пока твоя невеста не пришла, – проскрежетала Топорница. Голос её был как скрип двери в бурю. – Велела: руби живое, чтоб не сбежало… Теперь сама в черту превратилась.
Дан напрягается, чувствуя, как в висках звенит Поток.
– Значит, и до тебя добралась, – тихо признает он.
Топорница дёргается, как от ожога. Топор звякает о пол, издав звук, будто кто‑то вскрыл книгу до крови.
Из трещин на её коже сочится чёрная смола – не кровь, а растопленные слова.
– Хозяин… – шепчет она, едва дыша. – Сними… Сожги, если должен…
Дан выпрямляется:
– Ядвига – ведьма , – говорит твёрдо. – Своими зельями и порочной любовью не заставит меня пройти обряд. А раз винную чарку её не испил – она мне никто. На цепь не посадила и не… посадит. От ее проклятья я избавлюсь.
Он шагает ближе, взглядом осветив её деревянное лицо.
– И ты не её слуга, Топорница. Не держи на себе чужое.
Её дыхание сбивается. Пальцы судорожно вцепляются в рукоять топора.
– Не могу… руки режут сами…
– Сможешь, – ответил он. – Болото тебя примет. Очистит, как прежде. Оно помнит тех, кто в нём спал до весны.
Он поднял ладонь, и между пальцев вспыхнул мягкий зелёный свет – живой, как росток под землёй.
– Ступай. Болото отмоет боль. Пусть оно вспомнит тебя доброй.
Топорница вскрикнула – не от страха, а как человек, отпускающий вину. Её тело пошло трещинами, осыпаясь древесной пылью.
На полу осталась зелёная лужица, пахнущая вербой и речной водой.
Дан опускает руку.
– Спи, страж. До весны.
Лужица дрогнула, втянулась в пол – и исчезла.
О проекте
О подписке
Другие проекты
