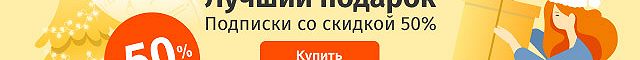
Старые книги шепчутся, страницы шуршат, будто несут эхо её шагов.
Велемир моргает, возвращаясь к реальности.
Боль в груди отзывается тяжёлым гулом – той самой трещиной на границе миров. «Какое же у моего сына нутро… – думает он. – Обернуться из человека в духа и, вопреки всему, жить в дупле каштана Посевного. И не позвать отца».
Он не знает имени. Знает, кем стал этот мальчик – тенью, эхом, обломком от его собственной сути.
Из представления в Древнем Зале испытаний Велемир не знает, насколько глубоко сын овладел силой. Но видит ясно: тот никого не боится, ставя Равновесие и порядок выше личных амбиций. В этом он узнает не только наследие матери, но и собственную кровь, словно древнее эхо прошлого оживает в его сыне. Однако слова амбарной сплетницы пронзают его спокойствие: служительница Морены отметила мальчика.
Тонкие, почти невидимые нити её воли тянутся к нему, пытаясь коснуться самой сущности его рода. Велемир ощущает холод в груди – впереди не просто испытание. Предстоит противостоять теням, которые тянутся сквозь кровь и судьбу.
Сердце бьётся глухо – не от страха, а от ясного знания: равновесие снова нарушено. Морена не забыла старый счёт. И если её метка легла на сына, то война ещё не окончена.
«Значит, всё-таки мой, – думает Велемир, перелистывая хроники.
– Мать Ярдана Весенница, но почему вместо имени обломок «Дан»? Всего шестнадцать полных годов. Теперь, чтобы спасти тебя, мне придётся снова встать на черту между жизнью и смертью. Он выдыхает медленно, как человек, принимающий судьбу.
Он выходит из Библиотеки в ночь. Воздух густой, пахнет железом и влажной землёй. Лес идёт за ним молча, как зверь, что узнаёт запах крови – не чужой, но тревожный.
Велемир не спешит. Его шаги тяжёлые, как сама тьма, что обвивает тропу.
– У Городничего, – звучит в голове хрипловатый голос амбарной книги. — Известно где. Не забудь про корешок.
Лес слушает и отступает. Ветви тихо расходятся, словно не смеют коснуться его плеч. Когда кончается мшистая тропа и начинается булыжник, воздух становится суше – человеческий. Здесь пахнет дымом, хлебом и мятой.
Мир людей.
Дом Городничего стоит особняком – резные ставни, знак Солнца на пороге и венок из сухих трав над дверью, чтоб «отгонять нечистое». Дом богатый, да не уютный. Всё в нём будто живёт само по себе: ставни поскрипывают, половицы тянутся, как старые суставы, даже часы тикают с укором – медленно, будто осуждают всякого, кто решается нарушить его покой.
Когда Велемир ступает на крыльцо, доски под сапогом жалобно скрипят – будто жалуются, но не осмеливаются треснуть. Воздух над порогом дрожит, тяжелеет, словно дом сам решает, впустить ли пришельца. Велемир не торопит – слушает дыхание стен, потом тихо произносит:
– Не к вам, а к своему пришёл.
Доски под ногами чуть отпускают, и дверь, скрипнув, приоткрывается сама.
Внутри пахнет жаром, горькими травами и вином.
Из‑под платяного шкафа доносится вздох, потом шорох – будто кто‑то перелистывает старую книгу не руками, а крыльями пыли. И вылезает дух-проказник – невысокий человечек в перекособоченной шапчонке, с глазами‑бусинами, где светятся и забота, и усталость веков – Барабашка. Лицо – морщинистое, живое, чуть подкопчённое, словно на нём вековая сажа осела. Глаза‑бусины светятся умом и усталостью, а пальцы, узловатые, будто корни, держат веник, как посох.
Он кашляет, опираясь на веник.
– Ну вот, дошёл, – бурчит он, отряхиваясь. – А я‑то думал, ты в Город подался, за мальчишкой своим.
Велемир чуть качает головой:
– Слышал, якобы беда приключилась.
Дух‑проказник кривится, будто от кислого:
– А то! Люди бают: как ушёл мальчишка из леса в Город, так каштан почернел. Не растёт, не цветёт – будто сам себя похоронил. Завязь осыпалась, свиньи плоды растащили, а следом мор пришёл. Ночами по ветвям дым стелется, ручьи замолкли. Всё, почитай, на него обиделось или ведьма мстит, не заполучив желаемого.
– На кого? —спрашивает Велемир.
– Да на Дана твоего, на кого ж ещё, – отвечает Барабашка, вздыхая. – Лес‑то его держал, как мог, а теперь пусто стало. Без него даже ветер блуждает, как сирота. Он в гневе был, – продолжил Барабашка. – В Городе ему тесно, а в Лесу – цепи вяжут. Затейница с Ягой что‑то своё мудрят, хотят, чтоб он к кому‑то да привязался, хотят оттяпать лакомый кусок. Мол, чтоб Потоки под контроль взять. Их у него видимо‑невидимо. А он – не из покорных. Ведьма стеной огня пыталась его удержать, да не на того напоролась. Захотел бы – сам её в пепел обратил. С тех пор каштан пустой.
Велемир молчит, глядя куда‑то за плечо домового – туда, где в глубине дома слышится едва уловимое дыхание.
– Он жив? – спрашивает он наконец.
– Жив‑то жив, – ворчит Барабашка. – Только не спит. Глаз янтарный – будто паутиной затянут. Силу держит, но… гул в нём чужой. Я, может, старый, а чую: не от Мора, не от Ярилы. Что‑то иное шепчет. Вот я и думаю: может, вы знаете, что это за блажь? Во сне у него на глазах живых пытают – уговаривают обряд пройти. Мол, «прими – и будешь чей‑то». А он бунтит, и правильно. Кто дастся в цепь – сам себе больше не хозяин. А с Ядвигой связаться… да кто в здравом уме на ней жениться согласится? На многовековой старухе, купившая бессмертие за душу? – Барабашка возмущается, даже ногой топает.
– В жару видения ходят, шепчут, зовут. Не ложится. Все мои снадобья из колыбельника со стеблями усни-травы выпил, говорит: Ядвига Морена изнывает, ждёт, когда он уснёт – оплести паутиной. Если уложишь – расскажу, как мы тут живём.
– Договорились, – коротко сказал Велемир.
Барабашка скрещивает руки – воздух за спиной дрожит, будто сама изба встаёт рядом.
– Дом слушается тебя? – спрашивает Велемир.
– А кого ж ему слушать, как не меня, – фыркает тот. – У тебя Потоки, у меня – сквозняки. Всё одно ремесло: где живёшь – тем и дышишь.
Изнутри донёсся слабый кашель. Барабашка вслушивается.
– Видишь? – сказал он глухо. – Ему и без тебя тяжко. Силой не тронь, прошу по‑доброму.
– Не трону, – ответил Велемир. – Вылечу.
Барабашка кивает нехотя:
– Ладно уж. Войди. Только без своего лесного шороха. Тут всё человеческое. Ломкое.
Дверь сама отворяется, скрипнув длинно, как вздох. Изнутри пахнет жаром, горькими травами и вином.
Полумрак дрожит – не от печи, а от силы, что копится в стенах, не своей, не мирской. Травы на полке седеют, будто выгорают без огня.
Велемир шагает – и слышит, как за спиной дверь тихо прикрывается.
У дальней стены, в распадающемся круге соли, сидит Дан. Он кажется чужим самому себе: вокруг кожи тлеет ореол, как уголь под золой. Правый глаз, янтарно‑золотистый, закрывает повязка, а второй, болотный, смотрит мутно и отстранённо. Спутанные волосы и испепеляющий взгляд словно пытаются скрыть его совсем ещё мальчишескую сущность, но всё равно выдаёт угловатость плеч, свойственная подросткам. Только по движению груди можно понять, что он жив. На полу – следы ног, словно он бродит здесь ночами.
– Сын, – негромко говорит Велемир.
Дан не поднимает головы. Только пальцы сжимаются, будто он удерживает невидимое.
– Что, Барабашка, опять кого притащил? – сипло, почти детски, но с упрямой сталью. – Только не начинай свои байки. Я их уже от Яги наслушался.
Он поднимает взгляд – настороженный, чужой.
– Сироте не гоже одному ворочать тысячами потоков, – бормочет он, словно повторяет чужие назидания. – Только я и ничем и никем не ворочаю толком. Сами про себя всё знают. Мой каштан сам вырос. Я просто подлечил и чуток помог. Вздумала чушь, да сама в неё и уверовала. Пусть не терзается: без Мора обойдёмся. Всё кругом живёт в ладу, зеленеет, плодоносит, а ко мне лезут лишь по пустякам.
Барабашка кашляет, но Велемир молчит.
Дан усмехается – резко, будто режется о собственную мысль:
– Пустяк для неё: это порченое безумство Топорницы… а для меня чужая просьба.
Он прикрывает глаза, потом снова открывает – болотный глаз становится мутнее, в зрачке мелькает боль.
– Все эти сказки про богов из уст Яги – несусветная дичь, – произносит Дан хрипло. – Ни Марью Морену, ни Ярилу я с рождения не видел. Только шёпот да угрозы.
Выдыхает тяжело, как после удара, и вдруг вскидывает голову, голос звенит упрямой ноткой:
– Но знай: я отказался – и своих решений не меняю. Думаешь, я тут ради ваших россказней? Меня Затейница попросила устроить Ратибору отпуск. Я что ли не вижу – он устал. Городские правила ясные: если человек на износ работает, надо дать передышку. А я в обман не играю и никому лапшу на уши себе вешать не позволю.
Он угрожающе рычит:
– Против лома нет приёма, окромя второго лома. А лом у меня имеется, так что… – он выдерживает паузу, и в глазах вспыхивает немой вызов, – …так что отпуск Ратибору будет. И точка. А я не про честь этой Служительницы Зимы… Вырву левый глаз и стану одноглазым, если придётся, – тихо добавляет он. – Лучше так, чем быть их слугой, – Тонкие жилы под кожей вспыхивают светом Потоков – будто внутри него пробуждается скрытая сила, пульсирующая в такт словам. Воздух сгущается, наполняясь едва уловимым гулом, словно сами потоки энергии отзываются на его решимость. Он не грозит – он утверждает. И в этом молчании, в этом свечении читается: спорить бесполезно. Решение принято.
Велемир стоит, не говоря ни слова. Воздух вокруг стягивается, словно от жара, но он не делает ни шага – только смотрит, как в лице сына то и дело проступает не человеческое: ветер, корень, отзвук Потоков. Не человек – живая трещина между мирами. Он хочет подойти, но под ногами дрожит доска – и Дан вскидывает голову, как зверь.
– Стой, – шипит Дан. – Не ближе. Я чувствую. Ты с ними.
Велемир вдыхает медленно, будто боится выдохнуть вместе с воздухом всю боль.
– С ними я не был и не стану, – говорит он. Голос – низкий, каменный. – Я ищу тебя не ради их забав. Чтобы уберечь.
Он шагает ближе, Потоки в углу трепещут, будто его узнают.
– Сын… – с трудом выдыхает Велемир. – Тебе не следовало просыпаться одному. Почему ты не позвал меня? Разреши посмотреть твой глаз. Я вылечу, сниму проклятие – чтобы тебе не приходилось идти на крайние меры. Они излишни.
Дан смотрит прямо, без тени страха. В Велемире пульсирует родственный поток – это чуть успокаивает полуоборотня, но обида всё равно горит внутри, не давая полностью довериться.
Он отвечает ровным голосом, в котором по‑прежнему звучит бархатный тембр, будто даже в гневе он не может полностью заглушить природную глубину:
– Каждый на своём месте. Кем родился, тем и пригодился. Сначала больно и трудно, потом привыкаешь – и всё получается.
В улыбке звенит горечь.
– Ты ведь выбрал войну, а не дом. О верхних токах я не хочу ничего знать. Свои потоки просят – не провернёшься. Так что я и не звал. А зачем? Кому нужен здоровый лоб, живущий в дупле? – Он криво усмехается, и в этом жесте читается не только сарказм, но и боль. – Да и то… Свиньи мои каштаны сожрали, спасибо Вашим хранителям. Видно, Заслон мой кому‑то мешает? Целый сдвиг устроили…
О проекте
О подписке
Другие проекты
