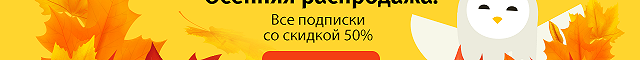
Глава 6
Демократическая империя
Беда случилась с Москвой в начале ХХI века: город разрушили. Взялись за дело резво, и не осталось дворов с сиренью, сонных переулков с бабушками на лавках, деревянных особняков. Ломали все подряд. Город дал себя распотрошить новым феодалам – с той же легкостью дал, с какой доступная женщина отдается новому кавалеру. Прежде Москву рушили татары, французы, немцы и большевики. Одни изнуряли Москву набегами, другие палили огнем, третьи бомбили, а большевики курочили динамитом, взрывая церкви. Но что-то еще шевелилось в городе, не все до конца испепелили, оставались спрятанные кухонные закутки с янтарными абажурами, где ворковали над чаем. А пришел новый порядок – и добили Москву. Выяснилось, что самый эффективный метод разрушения – жадность.
Суть «перестройки» и так называемой «приватизации» состояла в том, что страту советской номенклатуры – перевели в статус феодалов. Термин, внедренный в социологию Милованом Джиласом, обозначал привилегированную касту чиновного аппарата в стране, которая якобы строит социалистическое общество равных. «Номенклатура» управляет богатствами страны и распоряжается самой жизнью народонаселения на том основании, что воплощает идеологию правящей партии. Население живет по правилам идеологии, а номенклатура идеологию воплощает в своем упитанном теле.
Номенклатура, окончательная форма, в которую отлилась партия, представляла собой «служилое дворянство», образованное из опричников.
Существует, тем не менее, досадная разница между «номенклатурой» и «дворянством»: разница в том, что номенклатура не передает привилегии (дачи, посты, чины, ордена и квартиры) по наследству, а вот дворянство свои сословные привилегии по наследству передает. И даже не имеющий титула западный богач передавал свои яхты и поместья по наследству. И даже менеджер среднего звена «Бритиш Петролеум» мог передать скромные миллионы детям, а советский чиновник – не мог. Таким образом, «плюралистическая олигархия» (высшая точка развития западной демократии) обладала привилегиями перед советской «номенклатурой» (высшей точкой развития социалистического общества). Мог ли смириться с таким положением дел оскорбленный российский чиновник? В его лице была унижена вся страна: на примере номенклатуры мог оценить свое бесправное положение и советский интеллигент.
– Профессор вашего уровня, – говорили Роману Кирилловичу Рихтеру, – имеет в Бостоне особняк с бассейном! Вас не ценят в вашей стране!
Роман Кириллович, старший брат Марка Рихтера, московский профессор, специалист по русской культуре девятнадцатого века, отмахивался: ему, воспитанному на идеалах бескорыстных просветителей, было все равно – в каком особняке живет профессор в Бостоне.
– Вы лукавите, Роман Кириллович, неужели вы не замечаете, в какой помойке и нищете мы живем?
– Разве Диоген жил лучше?
– При чем тут Диоген?! – восклицали осведомленные граждане. – Вот журналист Цепеш эмигрировал на Запад, теперь работает на «Радио Свобода», у него пятикомнатная квартира.
– Какой еще Цепеш?
– А надо бы знать! Человек нашел себя!
– И что же нашел журналист Цепеш? – презрительно цедил Роман Кириллович. Оглушительная бедность делает неуязвимым даже для зависти.
– Цепеш разоблачает русскую культуру, издает журнал «Дантес»!
– Не желаю разоблачать русскую культуру! – старый профессор тяжело морщился. – Какой-то… – Роман Кириллович не использовал бранных слов, поэтому шевелил губами, подыскивая нужный оборот, – некий позер издает журнал, названный в честь убийцы Пушкина… Что за мода такая – плевать в свое прошлое? Зачем мне знать про это?
– Разве вам никогда не хотелось жить иначе?
– Разумеется, нет. У России имеется своя история.
– Неужели вам нравится все это: косые деревенские домики и церковные лампадки?!
– Как же вам, голубчик, объяснить простые вещи? Я занимаюсь историей своей страны. Вот брат мой убежал – в Британии отсиживается. А мне поздновато бегать.
Роману Кирилловичу достаточно было домашней библиотеки. То была огромная, собранная еще дедом и отцом библиотека, куда и он, и его брат (пока Марк жил в Москве) добавляли новые тома. Все поколения семьи Рихтеров жили вместе – квартиры хватало на всех, и библиотека была общей. Никто не считал себя обиженным теснотой: ведь хватало этой тесной квартиры на тысячи томов, а за каждой из книг стоял целый мир.
Семьи не стало, все разъехались; а книги остались. Роман Кириллович ночами читал. Около дивана скопилась стопка книг по истории России, старик протягивал руку, брал наугад. Надо всегда читать сразу десять книг, только так можно увидеть проблему. Тургенев хочет видеть Россию европейской, Данилевский и Трубецкой – евразийской, Соловьев – софийской, экуменической. А какая она на самом деле, Россия, этого не знает никто. Впрочем, думал старый ученый, никто даже не знает того, что такое «на самом деле». Может быть, никакого «на самом деле» и нет.
С тех пор как жена и дочь уехали в Израиль, не мог спать; таблетки не пил, боялся за сердце. Есть способ уснуть под утро – в детстве учила бабка: надо сильно замерзнуть, окоченеть, а потом накрыться очень теплым одеялом. Угреешься – и уснешь. Роман Кириллович открывал ночное окно, холод охватывал комнату, сжимал старое одинокое тело. В Москве жене было страшно оставаться, дочь должна быть с матерью, старик это понимал – а сам он не мог уехать от своей родины, от своей библиотеки, от судьбы своего отца; жена и дочь это тоже понимали. Когда старик засыпал под утро, то видел во сне дочь – и просыпаясь, не сразу понимал, что это был сон. У Чехова есть рассказ про то, как мучают собаку, дают ей проглотить кусочек мяса на веревочке – собака глотает, а мясо из нее выдергивают, рвут прямо из желудка. Так вот и со мной во сне происходит, думал Роман Кириллович. Потом он думал о том, что так происходит и с Россией, и с Украиной. Им дают кусочек свободы на веревочке. Они глотают, а потом свободу выдергивают. Правда, никто не знает, что такое свобода; вот в чем дело. Дают что-то несуразное, а потом и эту дрянь выдергивают обратно. Никакого «на самом деле» не существует: есть то, что есть. И только. Но как же поздно это понимаешь. Я ведь хотел видеть Россию – Европой.
Хорошо хотя бы то, думал Роман Кириллович, что отец приучил нас жить небогато. Сегодня российской интеллигенции трудно – знания уже ни к чему, зарплаты профессорам не платят, институты закрыли. А я держусь. Держусь.
Безбытность семьи Рихтеров не была типической чертой русского интеллигента. Типической чертой была зависть к цивилизации. Там, далеко, за дальними границами холодной России, существовал просвещенный западный мир, где у профессоров были пятикомнатные квартиры, где профессора обменивались просвещенными мнениями и получали высокие оклады. Основной принцип российского либерализма в том, что проявляется либерализм как стадное чувство, а не индивидуальный выбор: личной свободы и благосостояния все хотели с единодушием, кое пристало разве что большевистской партийной ячейке.
Роман Кириллович был человеком уникального дарования, но постепенно проникся общим духом русского либерализма. Жилищные условия, если вдуматься, – это оценка обществом твоей личной свободы. Нет-нет, российскую интеллигенцию нельзя обвинить в мелкой корысти – наемных работников умственного труда тяготила забота о демократии. Что такое «демократия», доподлинно узнают лишь на войне, когда массы принуждают умереть за выбранного лидера, но в мирное время о демократии мечтают. Никто из служилых интеллигентов (нанятых на работу олигархом Полкановым) никогда не читал ни Токвилля, ни Джефферсона, но даже гуру демократии Бруно Пировалли, и тот не читал. Никому не интересно, почему аристократ Токвилль ратовал за демократию и состоял в министерстве Наполеона Третьего. В мечтах «демократия» выглядит так: тирании нет, имеется свобода слова и собраний, а также неприкосновенная частная собственность.
Роман Кириллович знал избыточно много, он был, как говорится, занудой: разъяснял, в чем состоит разница между «демократией» и «просвещением», а также между «просвещением» и «либерализмом».
– Роман Кириллович, прекратите! Неужели не понимаете, что у русского общества иные задачи? В чем разница между либерализмом и просвещением – потом узнаем.
И объясняли: если нет достойной жилплощади, никакой свободы слова вовсе не будет! Мандельштам, Ахматова и Пастернак – знаете, как они страдали? – всякий знает, через какие унижения прошли эти мученики в отсутствие элементарных прав на частную собственность. Если вдуматься, и колхозники могли бы жить несколько лучше… Ну, дали бы мужикам что-нибудь этакое! Что им там, смердам, надо? Лопату, допустим, получше, метлу, скажем, электрическую… или трактор новой модели. Народ заслужил это!
Так была сформулирована основная задача «перестройки»: путь к гласности – через приватизацию. Для того, чтобы вписать Россию в общий цивилизационный процесс и одновременно обезопасить правящий класс, – требовалось сделать главный шаг: перевести номенклатуру в статус феодалов. Бесхозное дряблое гигантское тело социалистической России надобно было расчленить и раздать в верные руки. Отныне земли, природные ресурсы, производство, капиталы и рабы – то, чем владела номенклатура на время биологической жизни номенклатурщика – стали достоянием правящего класса навсегда. Неужели ты, очкастый интеллигент, думаешь, что миллиардер Полканов присвоил металлургический комбинат в своих корыстных целях? Нет, глупец! Целеустремленный Полканов, вступая в вечное владение миллиардами, отстаивает прежде всего твою – да, твою! – свободу! Ты тоже теоретически можешь получить поместье, нефтяную скважину и угольный бассейн. Мало того: поскольку Полканов приватизировал угольный бассейн, он получил деньги, этими деньгами финансирует газету, и собственник газеты желает публиковать только правду: теперь общество знает факты о сталинских репрессиях! Желаешь получить свободу слова? Тогда изволь приватизировать Липецкий комбинат! Борешься за права человека? Тогда согласись с тем, что земля отныне не принадлежит народу. И российский умственный интеллигент признал махинацию убедительной. Даешь феодализм во имя прав человека!
Разумеется, приватизировать Липецкий комбинат могли те, кто уже распоряжался комбинатом – партийная номенклатура. Таким образом, советская номенклатура стала править страной сообразно феодальному принципу. Возник продукт синтетический, «номенклатурный феодализм». Вместо партийных группировок возникли кланы собственников.
Роман Кириллович Рихтер, старый профессор русской философии, не разбирался в российской экономике – он даже не знал, имеется ли таковая. Когда-то ему объяснили, что социалистическая экономика очень плохая, и он поверил, поскольку продуктов в магазине не было. Потом появились продукты, но исчезла зарплата: доказывало ли это, что экономика капитализма лучше, трудно сказать.
Роман Кириллович брался за любую работу: в России – социалистической или капиталистической – надо уметь выжить.
Номенклатурные феодалы, точь-в-точь как их предки, феодалы царской России, отводили душу на крепостных. На них, этих бессмысленных двуногих, олицетворявших рабское прошлое социализма, вымещали они свой гнев. И особенно ненавидели феодалы социалистический город.
Социализм создал равно бедное жилье для всех; сегодня требовалось строить богатое для богатых и нищее для нищих – и все продавать. Плана застройки быть не могло: всякий план подразумевает согласие и гармонию, то есть равновесие пропорций, но равновесия не существовало, гармония не предполагалась.
И каждый феодал отщипнул от тела Москвы столько, сколько сумел. Коренные москвичи морщились на нуворишей, прятались в своих квартирках от погрома; но жадность новых хозяев находила граждан везде – их домики сносили, их квартирки объявляли нежилыми, их отселяли на окраины, а на месте былого жилья втыкали тупые коробки, каждый метр в которых приносил нуворишам прибыль.
Москва враз умерла – но потом Москва зажмурилась, вздохнула, сделала усилие и расцвела заново, как только она одна умеет делать.
Москва – живучая. Так устроена держава полумира, что город рассыпается в прах и гниет, а потом из гнили и пыли сызнова лепит величие.
Город, где кривая пошлость льнет к уродству, где похабное строение обнимается с наглым парадным зданием, вдруг распрямился; из вокзальной разноголосицы беспородных бомжей неожиданно родился величественный хор, и хор поет «Аллилуйя»!
Ликует и пирует Москва, – город проституток и воров, служак и казнокрадов. Это, конечно же, клоака порока, но сколь величественна эта клоака, как вопиют к небу ее бесстыдные огни, как напористо бурлят наглые улицы, как сияют шанкры площадей и пузырится в ночи реклама притонов!
Нет, это вам не заплесневелый музей Парижа, не засохший марципан Вены, не бабушкин буфет Мюнхена и не засушенный гербарий Петербурга – в Москве клокочет дурная история, величественная алчность, безвкусный героизм и все принимающее в себя могущество. И непобедимое мужество горожан, заново осознавших свою великую миссию. А миссия – имеется! Какие могут быть сомнения?
Привыкли смеяться над золотом Византии, над коварством Византии, над бесславной гибелью Второго Рима – и вот мир присматривался: рухнет Москва – Третий Рим – или нет?
Это город-герой, проститутка-царица, город-империя, город-вера. И город этот отражал устройство Империи Российской. Впрочем, «империя» – не точное слово. Будь то «княжество», «царство», «империя» или «республика» – страна Россия распадалась, менялась, но всегда отливалась в ту же самую, тождественную своей сущности форму.
Россия устроена как срез дерева, она прирастает окружностями, множится кольцами. И распадаться держава стала кольцами: отваливались внешние круги, сужался центр – и, глядя на сжимавшиеся размеры, былую империю стали забывать: ну, какие теперь империи? И ждали, что былая сверхдержава вот-вот распадется на улусы, как то предначертали западники, называвшие Москву «джучиевым улусом». Вот отвалился сначала внешний пояс сопредельных восточно-европейских стран, потом отпали Балтийские колонии, потом отошли Украина с Белоруссией, потом – Кавказ и азиатское подбрюшье. Еще немного, говорили иные прожектеры, и отвалится Татарстан, потом отпадет Дальний Восток, разойдется на буддийские республики, а там уж и волжские земли разбегутся на отдельные ханства. Останется Иваново царство от алчной России, и вот там, в мелких республиках, расцветет демократия. И вспоминали новгородское вече и Даурскую республику. Но случилось иное: центробежный пыл в России сам собой исчерпал энергию, и сызнова началось собирание земель. Постепенно, кольцо за кольцом, Россия стала приращивать утраченные в разгуле территории. Ахнули: неужели сызнова строится империя? Когда главный лозунг – «демократия», они опять за старое? И пеняли на охранные структуры и коварство комитета госбезопасности.
Но Россия по своему местоположению приговорена быть империей.
Ибо что такое «империя», как не скрепление Запада с Востоком? Тем и отличается империя от монархии, что это не только завоевания территорий, но такие завоевания, которые сливают Восток и Запад в единый организм. Империя перемешивает географические понятия воедино, устраняет природную дилемму «Запад или Восток» и тем самым устраняет дихотомию мироздания. Империя – это трансформатор напряжения полюсов мира; мудрость Востока переходит в энергию Запада.
Империя – это горизонтальная Вавилонская башня, смешавшая в себе народы. Нет больше Востока и Запада. В этом состояла идея Римской империи, развернувшейся от Африки до Британии; в этом состояла концепция империи Чингисхана, в коей из Каракорума управляли землями от Китая до Венгрии; в этом и был замысел Александра, которому Аристотель внушил миссию «гегемона» и который фактически стал наследником Ксеркса, объединив в себе образ грека и перса. Так называемые «евразийцы» стращали западников и либералов будто бы существующим «культурным проектом Евразии», мифической «серединной землей»; и содрогались либералы, заслышав грозное слово «Евразия» – слово это пугало тем более, что никакой внятной социальной идеи не содержало. Какая же социальная идея могла бы объединить казахские степи и балтийские дюны? Нет такой идеи. Никакой общей культуры, обычаев и привычек у народов общей земли не было. Нет никакой «серединной земли», да и «культуры Евразии» никакой тоже нет. Империя попросту не нуждается в дополнительной миссии кроме основной: организм мира требуется упростить. Замените эту примитивную концепцию идеей равенства, вселенской религией, и такая мысль будет благороднее; но приживется ли она? Потребность в империи возникла не в Евразии, но во всем мире, как только уничтожили социализм. В самом деле: если повсеместно победил капитал, почему бы не оформить весь мир как единую экономическую систему? Удобнее вести учет доходов в одной книге, не так ли? Сначала застенчиво называли империалистическую идею «глобализмом», потом «зоной интересов», но суть была одна – создать пространство безальтернативной воли. Неожиданно оказалось, что идея империализма нуждается в титульной нации. Вот уже и Турция возмечтала об оттоманской славе; вот и Польша заговорила о грандиозном плане – требуется Польше развиваться «от моря до моря»: о, где ты, великая Речь Посполитая? Украина, степная страна диких всадников, заговорила о своем первенстве в славянских землях, и лозунг «Усе будет Украйна» волновал сознание украинских патриотов. Как все может стать Украиной, не вполне понятно; но это ведь говорится символически. Украина займет место России – вот идея! Никакой социальной мысли здесь не было, никакой осознанной концепции устройства общества не предполагалось; но потребность оттеснить, отменить Российскую «серединную землю» и занять ее место – чем? чем-то новым, лучшим, достойным того, чтобы это место занять! – эта потребность приводила умы в экстатическое состояние. Никто не произносит слов «Оттоманская империя» и «Британская империя»; события выстраиваются сами собой. И вот уже президент Турции осознает свое историческое величие: это он, новый Мехмет Второй, скрепляет своей волей Восток и Запад. Вот уже клоунада британского премьера приобретает характер мессианский – ему, румяному, суждено сокрушить Россию и напомнить миру о Британском содружестве.
Происходило все это инстинктивно, повинуясь не религиозному, не идейному, но природному закону. Не монотеистическая религия, не антропоморфное язычество, даже не зооморфный культ, – но геоморфное взрывное начало управляло ходом истории. Происходило это по неумолимому закону социальной истории, того органического процесса, который подминает под себя культуру, переваривает ее, движется сам собой, именуя себя логикой прогресса.
О проекте
О подписке