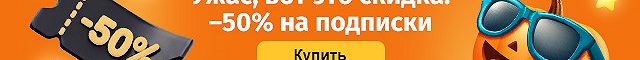
Он бежал, словно его тащил какой-то невидимый аэростат, как тех девушек, и ему представлялось, что он совсем крошечный и бежит по чистому белому листу бумаги, но этот лист неведомые, враждебные ему силы подожгли с двух сторон. И огонь быстро приближается к нему, и надо успеть проскочить туда, вперёд, где пламя его не достанет. Он нёсся по дну одного из многочисленных бывших здесь кривых оврагов. Бежал, подстёгиваемый огнём, совершенно не зная, куда этот овраг его выведет.
Когда все поднялись в атаку, и он тоже, он начал постепенно замедлять бег. Не пробежали и двадцати шагов, как спереди и справа по ним открыли огонь. Засвистели пули – и начали, вскрикивая, падать ребята рядом. Иные, упав, продолжали кричать, иные падали молча и уже не двигались.
Впереди, высоко подняв руку с пистолетом, маячил политрук. Он бежал первым. Бежал прямо навстречу пулям и увлекал за собой остальных.
На бегу старший лейтенант споткнулся и, перекувыркнувшись, упал, оставшись лежать.
– Командира ранило! – закричали рядом с ним.
Один из бойцов, он не смог вспомнить его фамилию, подбежал к нему и, нагнувшись, тронул за плечо.
– Товарищ старший лейтенант, что с вами?
Повернувшись, старший лейтенант посмотрел на бойца и хрипло сказал:
– Ничего. Споткнулся я.
Боец изменился было в лице, но, подобравшись, спросил:
– А почему вы не встаёте? Вставайте, вам вперёд надо…
Ему показалось, что это было сказано с укором. Рассердившись и на бойца, и на себя, он, сморщив лицо, выдавил из себя:
– Ногу зашиб. Сейчас встану. Ты беги, беги вперёд.
«Зачем я соврал ему про ногу?» – успел подумать старший лейтенант, как вдруг боец неестественно широко и удивлённо распахнул глаза. Взгляд его застыл, и он бросился на старшего лейтенанта. Они столкнулись лбами. Боец цеплял одной рукой его за гимнастёрку, другой странно размахивал, как будто пытаясь что-то смахнуть со своей спины. На лицо, на шею, под гимнастёрку старшему лейтенанту потекло что-то горячее и липкое. Он закричал и только потом понял, что у бойца пошла ртом кровь.
Смертельно раненный дёргался и хрипел на старшем лейтенанте, а тот, оцепенев, не сбрасывал его с себя. Смотрел в подёргивающиеся мутной поволокой глаза и видел, как медленно и бесповоротно, с каждым толчком крови, из бойца утекает жизнь.
Откуда-то спереди и справа захлопало, в воздухе протяжно завыли мины, которые враг обрушил на их наступающую роту. Несколько осколков глухо, по касательной ударили в мёртвое тело бойца, которое как щит закрывало старшего лейтенанта. Эти глухие удары вывели его из оцепенения. Сбросив с себя тело бойца, он вскочил и увидел, что многие тоже залегли, прячась от мин, а теперь вскакивают и снова бегут в атаку. Далеко впереди, там, где всё ещё маячила крепкая фигура политрука, была какая-то стычка. Тёмные фигуры накатывались и рассыпались, разбиваясь, словно волны о берег, о передний край нашей атаки.
Старший лейтенант бежал за удаляющимися от него бойцами, всё замедляясь, прихрамывая, хотя не чувствовал никакой боли, весь перепачканный чужой кровью. В воздухе снова протяжно завыло и засвистело. Вражеские миномётчики скорректировали огонь. Мины летели и рвались теперь далеко впереди него, там, где был политрук.
Сквозь дым он увидел, как политрук начал взбираться на высокий край оврага. Остальные бойцы устремились за ним. До вершины оставалось каких-то три шага, как вдруг прямо перед политруком несколько раз рвануло, вздымая вверх комья земли вместе с травой и остатками низкого кустарника. Старший лейтенант увидел, как отбросило вниз политрука и бежавших за ним и как странно отлетела в сторону рука политрука, сжимавшая пистолет.
С того места, где он был, хорошо просматривался весь склон этого оврага. Старший лейтенант остановился, заворожённо, словно в тумане, глядя, как политрук поднялся на ноги и, пошатываясь, пошёл куда-то в сторону, как вместо правой руки у него висели, болтаясь, какие-то рваные полоски, как, наклонившись, политрук поднял с земли свою оторванную руку и зубами вырвал из мёртвой своей ладони пистолет. Отбросив руку, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, взяв пистолет в левую руку, он что-то кричал и снова пытался подняться вверх по склону оврага, поднимая оставшихся бойцов в бой. Вокруг него полыхнуло, и он рухнул, растворившись в этих новых взрывах вокруг него, посечённый тяжёлыми осколками.
Очнувшись от навалившейся на него оторопи, старший лейтенант побежал, пока ещё вперёд, хотя уже и не прямо, а вдоль оврага, огибая его низом, по дуге, осторожно глядя туда, где в низине бесформенной массой, смешанной с землёй плотью лежало то, что осталось от их политрука.
Овраг кончился. Впереди открывалась, уходя в серый, смешанный с пылью и порохом туман, широкая балка. Старший лейтенант, спустившись в балку, пробежал так ещё какое-то время, пока не осознал, что бежит совершенно один. Вдруг он резко остановился и замер.
Впереди, всего в каких-то тридцати шагах от него, серой ревущей громадиной стоял заведённый немецкий танк. Ещё один, чуть в стороне, был подбит и горел, извергая густой чёрный дым. Поодаль в тумане угадывались очертания ещё нескольких, быстро удаляющихся, танков. Ближайший танк был повернут к нему правым бортом. Под башней, в обрамлении стальных рядов клёпок, старший лейтенант отчётливо видел чёрный, с белой окантовкой крест.
Но ужаснее всего были красные, как он сразу догадался – от крови, гусеницы танка. В этих гусеницах он разглядел перемешанные с землёй и тканью бурые ошмётки плоти. В одном месте белела, вся ободранная, застрявшая в гусенице человеческая кость. К горлу подступила вязкая дурнота, и согнувшегося пополам старшего лейтенанта обильно стошнило.
От башни танка в сторону одного из склонов балки пунктиром пульсировали две трассирующие линии. Это непрерывно били пулемёты, прижимая огнём, вдавливая в землю горстку залёгших в низине, за небольшим холмиком, бойцов из его роты. Вернее, то, что ещё от неё оставалось.
Со своего места старшему лейтенанту ясно было видно отчаянное положение бойцов. Среди них были тяжелораненые. Они редко отстреливались.
Бойцы его заметили, кто-то замахал стволом ППШ, ему что-то кричали. Послышалось «лейтенант» и «граната».
Его чёткий ум, как всегда, работал быстро. Старший лейтенант сразу точно оценил обстановку. Немецкие танки уходили с этой позиции. Возможно, тут было их боевое охранение, а теперь они передислоцируются. С задержавшегося здесь последнего немецкого танка, обстреливающего укрывшихся бойцов, его не видно. Правильным было бы воспользоваться этим и попытаться уничтожить танк гранатой. Он потянулся было к висящей у него на поясе гранате, но где-то глубоко в нём, заглушая и отодвигая голос разума и совести, заскреблось сомнение: «А вдруг не получится, не разорвётся граната или отскочит от танка и бесполезно рванёт рядом, как это, рассказывали, не раз бывало? Надо ли рисковать и высовываться?»
В его голове пронеслось: «Зачем они кричат и машут мне? Они же меня обнаружат и погубят».
Мелькнула предательская мысль: «Почему танк не стреляет по ним из пушки, а только пулемётами?»
Ему опять показалось, что он слышит, как со стороны бойцов до него доносится пронзительное и настойчивое «товарищ старший лейтенант…». Он стал осторожно пятиться, как вдруг танк взревел и двинулся с места. На миг ему показалось, что башня танка разворачивается в его сторону.
Этот миг решил всё в дальнейшей его судьбе.
Старший лейтенант резко развернулся и бросился бежать. Сняв с ремня всё это время мешавшую ему противотанковую гранату, он просто отбросил её в сторону. В сторону полетел и ставший теперь отчётливо ненужным во время бегства автомат ППШ с почти полным диском патронов.
До его ушей ещё слабо доносился отчаянный крик «товарищ старший лейтенант…», но он уже бежал. Бежал от зловещего немецкого танка, бежал от этого крика звавших его на помощь товарищей.
Сзади что-то оглушительно разорвалось. Спотыкаясь, падая, вставая на бегу, старший лейтенант, не оборачиваясь, почувствовал и не глядя – увидел, что выстрелом в упор фашистский танк разметал весь этот холмик, всё это ненадёжное укрытие и последнее пристанище его бойцов, весь остаток его роты. Но он не оборачивался, он бежал петляя, а ему навстречу, в лицо, бил поток горячего воздуха.
Страх хлестал его по глазам, по спине, по подгибающимся в коленках ногам. Он и представить себе раньше не мог, как много в нём страха. А ещё его терзало острое чувство обиды на свою судьбу, которая так несправедливо и подло забросила его сюда.
4
«Как же это подло и несправедливо, что я попал сюда именно сейчас, – думал младший сержант Иван Волгин, лёжа на своей узкой, сбитой из обрезков деревянной койке заволжского госпиталя. – Быть раненым в первый день боёв на улицах своего родного и любимого города! Вот же не повезло!»
Тесно заставленная рядами таких же коек палата представляла из себя, по сути, землянку, вырытую на глубине почти четырёх метров. Как ему рассказал сосед по койке, раненный в обе ноги говорливый мужичок Василий Маркин, землянки под подземный госпиталь рыл весь персонал, от санитарок и медсестёр до начальника госпиталя. Копали и днём и ночью, сооружали сначала землянки для своего жилья, а затем палаты, перевязочные, операционные и большую землянку-сортировочную. Проводили вентиляцию и обустраивали септики. Из брёвен и досок делали перегородки. Электричество на первое время обеспечивалось тремя тракторными двигателями.
На всём Заволжье, на берегах Ахтубы, по приказанию начальника санитарной службы армии было построено более сотни таких зарытых в землю госпиталей. Учитывая интенсивные бомбёжки и скудную местную растительность, прятать объекты военной инфраструктуры под землю было чуть ли не единственным выходом. Вот и размещали, зарывая под землю, штабы, блиндажи, склады и медсанчасти.
В отличие от своего соседа Маркина, Иван уже не был лежачим больным. Он мог передвигаться. Это в первые дни в госпитале ему было тяжело. Своё состояние он считал нормальным. Поэтому переживал, что его пока не выписывают и он вынужден терять время, когда другие воюют.
Он лежал на больничной койке, а в памяти его само собой возникало и медленно проплывало перед глазами всё, что было с ним до этого.
Иван родился и вырос в Сталинграде. Он не помнил и не осознавал прежнее, бывшее до 1925 года, название своего города. Гордился звучным и сильным именем – Сталинград, мысленно связывая его почему-то не с именем Сталина, а с чем-то другим – сильным, стальным. Было для него в этом имени что-то крепкое, грозное, несгибаемое и упрямое. Но вместе с тем родной город всегда был для Ивана добрым, тёплым и живым.
Семья Волгиных: отец Сергей Михайлович, мать Александра Ивановна и младшая сестрёнка Варенька – жила практически в самом центре города, на улице Советской, в доме номер 13. Это число Иван считал для себя счастливым, как и номер своей квартиры – 55. У него с детства сложилось так, что всегда, когда надо было что-то решить, важное или не очень, либо были сомнения, он мысленно считал до пятидесяти пяти и только потом действовал. Это могло касаться всего: незначительных мелочей и вещей вполне серьёзных.
От их дома номер 13 было рукой подать до набережной Волги. С родителями они катались на прогулочном пароходике по реке, на велосипедах – по парку Карла Маркса. Летом стояла неимоверная жара, от которой спасали растущие кругом развесистые клёны, дававшие тень, да ещё множество спасительных фонтанов, установленных по всему городу. В эту жару они много купались в Волге и потом, накупавшись вдоволь, грелись с Варей на тёплом песке пляжа. Для всей городской детворы это было особое, любимое место. По длинным деревянным сходням люди шли на переправу. До набережной они ходили с Варей через шумный сталинградский базар. Иван закрыл глаза, представились ряды с яблоками, мешки с воблой, корзины с огурцами, возы с арбузами, дынями. Ему сразу показалось, что он ощущает тот особый, родной сталинградский запах. Запах речной рыбы, рогожи и свежей волжской воды.
От их дома недалеко было до их любимой с Варюшей площади Павших Борцов революции с её просторными аллейками вдоль нарядных и ароматных клумб, скамейками, где всегда легко можно было найти свободное место, присесть и насладиться немного подтаявшим мороженым. И где по праздникам очень весело и хитро на всю эту площадь посматривал товарищ Сталин с огромного круглого плаката, растянутого на полстены дома на углу. От их дома было совсем недалеко до иногда подсыхающего летом русла тихой речки Царицы, в честь которой когда-то первоначально и был назван город – Царицын. Бегать туда Ваня любил, чуть забирая вправо, через уютную Октябрьскую площадь, с её неизменным трамвайным перезвоном, обгоняя по пути прогуливающиеся под руку парочки.
На одном из заброшенных пустырей вдоль берега Царицы произошла с ним история. Случилась она в кажущиеся неимоверно далёкими школьные годы.
«Не история, – думалось ему, – а испытание».
Из всех, выпавших ему потом, одно из первых. Испытание, которое Иван тогда не смог пройти.
Относиться к событиям в своей жизни как к испытаниям, которые надо пройти и выдержать, его приучил отец.
Спокойный и серьёзный, Сергей Михайлович, разговаривая с сыном, с малых его лет старался тому объяснить, каким должен быть человек.
– …Если он, этот человек, претендует на то, чтобы считать себя настоящим человеком, – часто добавлял отец.
Он рассказывал Ивану о том, что жизнь часто ежедневно испытывает тебя, подталкивая порой совершать неправильные поступки. И важно уметь постоянно, в любой ситуации выдерживать такие испытания, чтобы оставаться человеком.
Его отец не терпел вранья. Ещё Иван часто слышал от него, что никогда нельзя предавать своих друзей. Отец, не боясь затереть эти избитые истины и превратить их в ничего не значащие слова, старался донести их до сына.
Многое из того, что говорил ему отец, Иван начал понимать, лишь когда сам прошёл через многое.
Родители Ивана были инженерами. Вечерами в небольшой, но отдельной квартире Волгиных часто собирались друзья. Сидели допоздна. Бывало, что выпивали немного, но зато много шутили, смеялись, иногда громко спорили о чём-то, но всегда пели, и это были красивые песни.
Ваня с сестрёнкой Варей слушали их разговоры, подхватывали слова песен, ставших за столько вечеров знакомыми, хоть порой и малопонятными для них. Им нравились такие посиделки дома, когда они ждали гостей, когда стремительная, разрумянившаяся мама весело металась по кухне, накрывая на стол. Когда заметно оживлялся в основном серьёзный папа и начинал очень смешно шутить, когда гости постепенно собирались на их кухне.
Ваня смущался и молчал в присутствии гостей, а Варя, несмотря на то что была гораздо младше брата, вела себя очень смело. Она начинала засыпать вопросами и рассказами каждого приходящего к ним в гости так, что родителям приходилось порой оттаскивать её от них, шутливо приказывая отправиться в их с Ваней комнату.
Маленькая Варя никогда не терялась. По любому поводу у неё находилось своё собственное мнение. И не было для неё такого вопроса, на который она ответила бы «не знаю». Ваня всегда утверждал в таких случаях, что Варя просто не знает такого ответа – «не знаю». Удивительно, но он быстро научился извлекать пользу из этого упрямства младшей сестры. Когда она была ещё слишком маленькой, чтобы долго вечерами гулять одной, с ней гулял Ваня. И ему часто приходилось прибегать к одной хитрости, чтобы убедить отчаянно упирающуюся Варю, что пора уходить с детской площадки домой.
Сначала он говорил ей:
– Варя, нам с тобой срочно по важному делу надо идти домой, уже поздно.
Часто это не срабатывало. И Варя, готовясь громко разреветься, категорично заявляла ему:
– Нет! Я ещё долго буду здесь играть. Не пойду домой!
Тогда Ваня, напуская на себя немного загадочный вид, сообщал ей:
– Но надо обязательно идти, Варя. Ведь – аккумулятор!
Иногда вместо «аккумулятора» Ваня вставлял слово «квартал» или ещё какое-нибудь непременно сложное, непонятное Варе слово. И это слово действовало на Варю магически.
Не желая признаваться в том, что она не знает значения этого «умного и сложного» слова, Варя сразу становилась серьёзной. Затем она начинала прощаться со своими подружками в песочнице. Всем своим важным видом она показывала, что «раз уж тут замешан сам “аккумулятор”, то ничего не поделаешь: у неё появилось важное дело, и ей надо срочно отправляться вслед за Ваней домой».
От этого происходили смешные случаи. Иван улыбнулся, вспомнив, как однажды друг отца, дядя Витя, посмеиваясь над Вариным «всезнайством», спросил её:
– Варя, ты ведь всё знаешь?
– Да! Конечно, всё, – ничуть не смутившись, ответила Варя.
– А вот кто такой был, например, гладиатор Спартак? Знаешь?
– Да!
– И кто же?
Варя, подумав всего пару секунд, выпалила удивлённому и оторопевшему от её ответа дяде Вите:
– Он очень много сделал для советских людей!
– Да, тут ты права, трудно спорить, – со смехом отозвался папин друг.
Дядя Витя Семёнов был душою папиной с мамой компании. Шумный, остроумный, любящий розыгрыши, он нравился всем, а особенно детям. Его громкий смех и сильный голос перекрывали другие голоса. Как-то в один из вечеров он объявил, что сегодня он впервые сядет на шпагат. Он готов был поспорить с любым, что это у него выйдет легко и просто, без всякой подготовки.
Это всем показалось невероятным. Да и массивная фигура дяди Вити вызывала сомнения, что это вряд ли у него получится. Но когда все сомневающиеся заключили с ним пари и потребовали, чтобы дядя Витя незамедлительно исполнил обещанное, тот, нисколько не смутившись, вышел на середину комнаты и зычным своим голосом пророкотал, обращаясь к Ивану:
– Ванька! Неси шпагат!
Засмеявшись, Ваня принёс из кладовой моток верёвки, бросил её на пол, а дядя Витя, под общий смех и аплодисменты, торжественно уселся на неё.
– Вот я и сел на шпагат! – торжественно объявил он собравшимся.
Ваня хохотал тогда громче всех.
Но, несмотря на то что он очень любил дядю Витю, была одна вещь, которая ему в нём не нравилась. Это вечно ускользающие от собеседника глаза дяди Вити. Иван с детства привык заглядывать людям, с которыми он встречался или разговаривал, глубоко в глаза. Ему всегда представлялось, что там, в самой глубине глаз, у каждого человека есть что-то такое, что человек старается спрятать от других о себе. Он знал, что, прочитав и разгадав это, можно многое понять о человеке. В детстве Иван и в свои глаза пытался заглянуть поглубже, подолгу смотрясь в зеркало. У дяди Вити из глубины глаз проглядывало что-то жёсткое и колючее, что пугало Ваню тем, как сильно оно не совпадало с весёлым дядивитиным смехом.
Иван с сожалением вспомнил, как перестали у них дома собираться эти шумные компании.
В один из последних вечеров на кухне собрались все, кто обычно бывал. Не было только почему-то давнего папиного друга, дяди Серёжи. В тот вечер говорили тихо, не пели и не веселились. Из кухни еле слышно доносились приглушённо-напряжённые голоса. Но Ваня услышал, что разговаривали о дяде Серёже. В какой-то момент отец начал что-то резко высказывать дяде Вите. Всегда шумный и задорный, тот что-то тихо и невнятно ему отвечал. Внезапно отец отчётливо и сильно произнёс:
– Подлец!
Дети, слыша обрывки разговора у себя в комнате, вздрогнули. Варя испуганно зашмыгала носом. Задвигались стулья, в притихшей квартире застучали шаги. Гости начали расходиться. Первым, хлопнув дверью, ушёл дядя Витя. За ним, смущённо прощаясь, ушли остальные.
Отец ещё долго сидел с мамой на кухне, и Ваня слышал, как он горячо объяснял ей, что «Сергей никак не мог быть врагом, что он давно его знает. Они вместе через многое прошли, не мог он всё это время притворяться честным человеком и вредить Родине, что это ошибка и всё обязательно выяснится». Мама испуганным голосом просила его говорить потише. А отец, всё повышая голос, говорил: то, что сделал Семёнов, – подлость, что нельзя так поступать с друзьями, что он никогда бы не подписал то, что подписал Виктор и не выступил бы так, как он, на общем собрании.
О проекте
О подписке
Другие проекты



