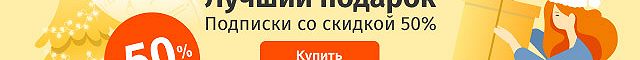
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней.
Как будто еще не изобрели письменности – ходят изустно в народе стихи, которые вряд ли напечатают при жизни нашего поколения. Ходят по свету строки, забыв своих авторов, минуя строгие запреты появляться в общественных местах. Так нетрезвых не пускают в метро. Так «посторонним вход воспрещен». Туда, где заседают. Всенародно и закрыто.
Ходят строки. Живут без прописки. Нелегальные навсегда. Беспризорники в облавах… Быть бы живу – не до славы!
Встречаются и анонимные. Строки-намеки.
За них немудрено и заработать сроки.
Но, как правило, это дань моде. Типа «Мы все лауреаты его премий!»… (Имеются в виду сталинские.)
Поздносовестливые и покаянные. Это зачастую не самобытные письма манеры. Их друг от друга не отличить. К счастью их писавших. Да и безопасней так и спокойней!
Случись бы сейчас свобода, и объявилось бы по нескольку сот авторов на любую из этих анонимных, пусть даже и безликих, строк.
В чем и зачем нам каяться, если мы все писали сами? Если мы зафиксировали на бумаге себя такими, какие мы есть? Что требуют от нас – отказаться от написанного? Так и это бесполезно – написанное нам уже неподвластно, да и не принадлежит, став фольклором. Да и грош цена словам, которые можно взять назад.
Боясь всю жизнь, писатель Ямпольский зашифровал свои рукописи. Он умер, так и не успев оставить ключ к их прочтению. Когда и какой шифровальщик разберет его письмена?
Мой старый товарищ Владимир Максимов, один из очень немногих, писавших здесь открыто. Зачем же стесняться своей честности? Ведь каждый делает то, что он не может не делать.
«Если можешь – не пиши!» – требовал Лев Толстой. Но какое же преступление – мочь и не писать!
Я живу в Сокольниках, неподалеку от того самого двора, который посреди неба. Живи Максимов на старом месте – были бы мы соседями.
Двор посреди неба… на улице Шумкина. Сколько раз я бывал здесь! И старуха Шоколинист еще пересекает его, наверно. Самая живучая старуха из самой страшной книги Максимова, круто повернувшей его жизнь.
Покосившиеся строения, наклонившиеся к сносу. Типичный уголок слободской Москвы, мастеровой и трудолюбивой, но однажды вышедшей на огромные митинги и уже не вернувшейся к работе, без которой себя не мыслил русский человек…
Свыше полувека митингует народ русский, вместе со своими окраинами. Митингует, агитируя самого себя. Теперь уже сидя. Каждый на своем стуле. Каждый на своем месте. Заседает в отличие от вчерашнего стояния на ногах. «В ногах правды нет!» – гласит русская пословица. Да и в стуле ее – не больше, особенно если он с гербом. Советский народ… Одна половина стоит под ружьем, а другая – сидит под ружьем.
Идет самоагитация, крикливая, чтоб все слышали и все загорелись этой безудержной, самоопьяняющей идеей вселенского погрома. А думает пусть Пушкин, у него голова без фуражки, а помогают пусть ему интеллигенты. И вкалывают студенты. Пусть возводят братские ГЭС и дороги в… никуда.
Самый привилегированный класс – класс агитаторов давно уже скомпрометированной идеи всеобщего равенства. На охрану которой брошены несметные армии соглядатаев с невиданным по мастерству аппаратом подавления.
Гении демагогии с танками наперевес!
«Партия – не дискуссионный клуб». Это уж точно! Такая партия никакой дискуссии не выдержит. Никакие катаклизмы не в состоянии потрясти эти устои. Кроме одного-един-ственного Слова. Даже не слова, а буквы – одной-единственной буквы закона, закрепившего свободу не абстрактного слова, а легальность его.
Если бы в нашей стране чтили хотя бы один-единственный пункт конституции – «свобода слова и собрания» и люди научились бы им пользоваться – даже слепцы увидели бы всю нелепость этого порочного нагромождения, громко поименованного «Народная власть». Лопнул бы мыльный пузырь, ставший со временем и не без помощи извне – железобетонным. Взорвался б, забрызгав землю зловонными остатками былого сверхмогущества.
Алгеброй выверяют гармонию. Что приложимо к этому преступно негармоничному строю? – Слово правдивое и громкое, застрявшее в горле истлевших в земле поколений. Пытавшихся высказать его однажды. И поплатившихся за это жизнью.
Чудо, свалившееся с небес, все поставившее с головы на ноги?
Нет, бесплатная свобода не нужна. А платить за нее не хочется. Однажды уже пытался русский человек добыть свободу – дорого она ему обошлась. По сей день платит.
Нет, свобода, она неведома русскому человеку, как головная боль неведома крестьянину. Стреноженные кони с развязанными ногами еще долго скачут, не веря, что они уже свободны. Овцы не выходят за нарисованную черту когда-то ограждавшего их загона.
Когда хамы взяли власть и уничтожили не согласных с ними, верша погром еще на своей территории, они не допускали мысли, что будет инакомыслие. Они едва ли думали о честных одиночках, которые посмеют выступить против большинства, хорошо усвоившего, что партия – не дискуссионный клуб. Тут надобно не убеждать, а побеждать. А там видно будет.
Серая масса, хоть и цвета серого вещества мозга человеческого, но, увы, – не мозг. Но даже при наличии своей явной глупости, они точно рассчитали – в ближайшие столетия никто не вякнет. И действительно помалкивали. И помалкивают. И в будущем будут хором молчать, считая, что посреди жующего зверинца не много скажешь – разорвут. Инакомыслящие… А остальные – мыслят ли они вообще?
Какая разница у нас между левыми и правыми? Левые боятся справа. Правые боятся – слева. Двусторонняя трусость. Может быть, много у нас инакомыслящих, но мыслят они втихую, про себя, заглушая свои невеселые мысли разговорами про счастливую жизнь. «Вот ведь она – за окном!» – кричат они, чтоб слышали соглядатаи.
Оттого на 260 миллионов только сто вслух и явно инакомыслящих. И то эту цифру я беру с опережением в надежде, что их станет больше. Здесь, а не там, куда они уехали инакомыслить вслух. По мнению большинства молчащего и даже во сне не кричащего, они не более чем лезущие на рожон донкихоты. Чья обычная честность воспринимается здесь если не провокацией, то самоубийством.
Зачес привычных мыслей и дел… Попробуй-ка скажи против шерсти, для пущего человекоподобия подбритой там, где надо.
Интеллигенция до поноса трусливая, да пьяный вдребодан рабоче-крестьянский класс, непонимающе хлопающий глазами в люльках патрульных милицейских мотоциклов. Ему бы поспать на лавочке, пока будут защищать его человеческое достоинство те немногие смельчаки, невесть откуда взявшиеся. Ему хотя бы во сне их увидеть – жертвующих во имя его будущего и настоящего.
Овцы… не выходят из загона. А люди, никогда не знавшие элементарных демократических свобод парламентаризма, только они могут допустить культ любой, даже никчемной личности. Каждый потянувший вожжи станет их погонщиком. Каждый, даже с усохшей рукой.
Кстати, чем мизерней личность, тем масштабней культ.
Чудес не бывает, но если бы они и были и люди увидели свалившуюся на них, так – за здорово живешь, свободу, они бы не сдвинулись с места. Оцепенели бы. Хотя пролетарию кроме своих цепей терять нечего.
Но прежде всего надо научить когда-то оскопленную нацию пользоваться своим словом, так громко ей дарованным и гарантированным Конституцией.
Словом, возвращающим зрение – слепым. Словом, выводящим из оцепенения. Словом, доходящим до слуха даже замурованных глухо, в стране, где и рта не дают раскрыть.
Традиции русской литературы. Она веками воспитывала гуманность и любовь к ближнему. Великодушие к убогому, юродивому, несчастному… Воспитывала вопреки черной неблагодарности и плевкам в лицо писателей или просто заступников.
Человековидение писателей, порождавшее жалость и боль за себе подобных, и не только в своем отечестве, становилось их словом и делом. Выше которого и представить трудно.
Солнечные россыпи душ на холодной и суровой равнине русского климата… Несчастье ближних надрывало их голоса, оттого и слышные. Расширяло их сердца, оттого и огромные.
По кандальной цепи поколений это передалось и в настоящих россиян. В тех немногих, как и вчера отмеченных Богом.
Ничто неизменно в этом мире. Просто в толпе труднее отыскать Пушкина. А в коммунальной сутолоке – Толстого, плюнувшего на назидания и ставшего Салтыковым-Щедриным.
Ничто неизменно! По-прежнему функции спасения исключенных из правила одиночек приходится брать на себя Западу. Потому что наши народы не в состоянии заступиться за собственных сыновей и дочерей. Благо этих одиночек немного. И этим задача спасения несколько упрощается.
Детство! Затянувшееся детство… Папа Док или папа Джо. Римский папа или папа Вова… Сплошные папы посреди круглого сиротства. То один отец нации тянет за бороды сквозь узкое окно в Европу. Спустя пару столетий другой папа посчитал, что «Петруха не дорубал», и потянул Россию назад в Азию (будто она в Европе жила). По-своему решив извечный спор славянофилов и западников.
Вот и таскают, родимую, из стороны в сторону каждый, кому не лень. И трещит по швам скатерть земли русской, проваливая в свои рваные края и славянофилов – патриотов русских, говорящих по-французски и марширующих по-прусски. И западников, чье исподнее пропахло религиозно-патриархальным ладаном. А роднит тех и других извечное неприятие всего иноплеменного, иноземного, иноязычного. Однако это не мешает и тем и другим идолопоклонствовать перед всем иностранным и по сей день. Плюхаются лбом с высоты великорусского шовинизма, подтверждая извечную истину: чем посредственнее, тем надменнее! Неистовые «исты» – марксисты, троцкисты, маоисты, фашисты… А где человек?
Старые и новые «измы» – социализмы, нацизмы, либерализмы… А где идеальное общество?
Два мира стараются по возможности не замечать уродств друг у друга. Договариваются взаимно блокируемые союзы, закрывая глаза на вопиющие расхождения.
Разрядка напряженности… Без парадного фрака это выглядит значительно проще и далеко не возвышенно. Разрядка – это разрядить пистолеты друг в друга. И по возможности быстрее. Желательно навскид. Ибо целиться – просто нету времени. Только пистолеты нынче далеко не дуэльные. Слишком велика отдача, так и планету столкнуть недолго. А где еще в мироздании найдешь такую терпеливую?
…Просвистанные милиционерами улицы… Уксусный запах каких-то красилен… и зеленеющие вдали Сокольники. Неухоженные и еще не ведающие иностранных павильонов. Со скрипящими качелями и вечно не смазанным «Чертовым колесом».
Мы идем с Владимиром Максимовым по лучевым просекам этого, когда-то дремучего парка к партизанским засадам где-то прячущихся пивных ларьков. Из-за деревьев выходит какой-то старик и предлагает нам свою очередь за пивом. У него явно нет денег. Встав вместо него, мы конечно же угостим его за находчивость. Спереди из кармана старика торчит соленый огурец, а сбоку топорщится граненый стакан на случай импровизированной выпивки. Ну, кто ему не нальет ему положенных ста грамм? Не старик, а сама предупредительность!..
Надо отдать должное сокольническим алкоголикам, собирающимся утром у закрытых еще магазинов. Каждого осторожно ступающего по земле человека, обросшего и несчастного, с глубоко запавшими глазами, явно страдающего в поисках похмелья мученика, здесь подзовут и нальют спасительную сивуху для пущего оживления души.
Солидарность все пропивших и все спустивших с себя людей. С мелко дрожащими руками и вечно воспаленными белками глаз. Людей, глубоко несчастных, оголенных, как зачищенные провода…
…Пересыпая свою хрипловатую речь французскими словами, старик представился нам, быстро обтерев несвежим платком свою видавшую виды посуду:
– Штабс-капитан добровольческой армии Лавра Георгиевича… кавалер, смею добавить, – полный кавалер Георгия… честь имею! Надеюсь, вам ведома история России, молодые мои друзья? Разрешите… – И он пододвинул к одному из нас свой стакан.
Мы налили ему водки. Он выпил, пожевал губами. Затем проглотил пиво. И сказав, что за стаканом зайдет позже, собрался было уходить. Но мы попросили его остаться, если он, конечно, не торопится. Очень уж нам понравился этот старик.
– Дело в том, что мы историки и нам страсть как хочется вас послушать!
Мы не слишком покривили душой. Чего-чего, а всяческих историй нам тогда с Максимовым хватало! Мы в них попадали легко и быстро (недаром мастер провокаций – ЦДЛ).
Заголубели глаза бывшего штабс-капитана. Почувствовав в нас благодарных слушателей, он покрылся румянцем, зарделся, как девица из благородного пансиона.
– Как же, как же, разумеется, расскажу! – сбивчиво начал он…
Мы выпили еще, пока не трогая его огурец.
Старые люди… они не оглядываются – они пятятся в свою память. Втискиваясь в нее, ощущая похолодевшими лопатками щербатые стены своих вчерашних расстрелов. Там они могли остаться молодыми. Но судьбе угодно было ткнуть их в старость. Спокойную и равнинную, с ровным течением остывающей крови. Иногда лишь дергающей сердце короткой вспышкой вдруг промелькнувшей жизни. Прожитое не отпускает плечи. Едва отпустив – оно опять наваливается. И так все время, пока человек не уйдет в него с головой.
Это самообман, что мы живем в настоящем. Мы остались там!.. И он поворачивал нас в те далекие времена, когда он был в нашем возрасте. Защищенный своей молодостью. В России, треснувшей надвое, разверзшейся да так и оставленной зиять несомкнутыми половинами.
Боже упаси вас заглянуть в эту пропасть! Боже упаси!..
Как баклан с перевязанным горлом, не умеющий проглотить пойманную рыбу, старик то и дело тянул шею, тяжело перекатывая кадык. Судорожно глотая слюну. Дергалась обтягивающая скулы кожа. Будто соскакивала с выпирающей кости. Слегка подтаянная под глазами…
Сколько б крови ни пролил русский человек, всегда останется капля, в которой он унесет свою родину. Всю – необозримую и непостижимую, до последней травинки, щекочущей память, до последнего колоска, тиранящего сердце.
Они бежали из России. Пытаясь прижать неохватное. Сыпучая плоть родины – все, что осталось на дне их ладоней, – невзрачная горстка земли. Негромкая утешительница в будущих их скитаниях.
Они оставляли беспомощных предков своих, вобравших поглубже кресты на своих могилах. Дрожь земли закипала гулом грядущих орд.
Они оставляли будущее Родины своей. С настоящим в придачу. Сколько легло их, не добежав! Сколько убежавших – возвратилось!
Видно, давно он не трогал прошлого. Неостановимого, как несвертываемая кровь. А коснувшись – не мог остановиться.
Давно стемнело. Захлопнули пивной, наскоро сбитый ларек. Разошлись его разноликие обитатели. А мы стояли у одноногого потрескавшегося стола и слушали его – свидетеля и участника величайшей русской трагедии. Все еще толкающей впереди себя свои разрушительные круги.
Кровавое бегство. Унижение. Свалка фамильных гербов… Пересыльные лагеря, пересыпанные тифозными вшами. Горечь посыпанных нафталином русских слов на днище захлопнувшихся Словесностей… Врастание в чужие берега… Оборванная строка летописи.
– Нет России нигде. Ни там, ни здесь! – заключил старик. – Нет и быть не может!
Где твои певцы, белоэмиграция? Какую родину тебе еще нужно? Родина, она еще родит народ! Но от кого?
Пусть зрячие напишут Одиссею!
…«Вы говорите, время проходит!»
Они проходят сквозь стены легко, только пропуск покажут…
– А знаете, здесь все философы отказываются от своих концепций, – поделился своими наблюдениями мой генерал. – Только один допрос с пристрастием – и концепций как не бывало. До чего же не убежденные в своем деле люди, – явно не симпатизировал философам старый чекист. – Сколько же их прошло через мои руки, пока Партия меня не перебросила на писателей. На этот ответственнейший участок идеологической работы.
– Ну и как писатели? – не удержался я «поболеть» за коллег. – Небось из своих творческих «я» туалетную бумагу крутили?! Кстати, сейчас модно подписывать на ней международные договора.
– Это как же? – поинтересовался генерал, невероятно любознательный мужчина.
– Ну, раньше на платочках, чтобы начхать. А теперь и утереться можно. Прогресс! Утерлись и пошли дальше. «Нам с вами не по пути, господа капиталисты!» «А как же договор?» – воскликнут бедняги. «А так – был да сплыл». И на импортный унитаз подозрительно чистым пальцем укажут.
– Вы лучше скажите – на что жить собираетесь? Ведь вас давненько уже не печатают. А теперь и переводы как пить дать отберут.
– Когда к писателю не идут, – перебил я его, – не печатают и заведомо на молчание обрекают, при этом замалчивая, как свои собственные преступления, игнорируют, пугают, шантажируют и морят голодом – он от этого не перестает быть писателем. Есть такая в народе фраза: «Положил я на вас с прибором!» В данной ситуации можно добавить – «С письменным».
– Да, с вами у нас все понятно.
– Да, ясность – вещь хорошая, – согласился я.
– Будем считать, что это последняя наша встреча, – сказал капээсэсовский генерал-куратор – писательский папа (не римский, но лубянский) как для круглых сирот, так и для идиотов круглых. С каждой встречей такой с меня отлетали бумажки-права, явно уменьшая возможности жить в этом мире. Я становился как бы меньше. А он громоздился и рос, становясь как бы больше. Я еще на ступеньку вниз. Он еще на ступеньку вверх. И еще норовил встать мне на плечи, как маленький. Тело его лезло из кожи – куда? Куда ты растешь, дядя, поочередно превращаясь то в указательный (прямо с плаката) палец, то во впритирку поджатый хвост? Конечность послушная, и что это перед моим носом так тобой размахались? Как же стараешься ты туловищу подражать! Да ведь и оно от головы далече. Да и где она – голова у этого всадника, что верхом на стольких нас?
Указательный туловища, чуть обрубленный, чтобы торчком. Вот чем в меня государство тычет. А как ведет себя эта конечность! Будто в одной кобуре у него смерть для меня, а в другой – для себя бессмертье. Всеми одинаково причмокнет земля, уж поверь, волосатый! И лезущим спать на помойку, чтоб было теплей. И ночующим поуютней. Останется вилла модерн, но с русским коньком на крыше, и даже не вздрогнет, когда обвислую плоть ее постояльца три метра земли перекусят. Даже Маркса не сможет достичь – червяком поползет поискать его бороду.
Разройте немного земли, и вы увидите – ползают черви. Это души красных ищут отца своего. Демократка земля – одинаково лопает всех. Да и мыслимо ли ей разбираться среди скопищ таких? Пусть на небе ломают голову – кто есть кто среди тех беспартийных, чья душа в состоянии выше трех метров подняться и уйти, притяженье порвав. Одного
схоронят от посторонних глаз на участке заброшенном. Другого – на виду – на отличном. Опять-таки, это отличие для еще живых. Все равно ими одинаково причмокнет земля. Вот кто сколько выгадал от прожитой жизни? Вот кто сколько и чего оставил, разумеется, кроме дерьма? Скажем, просто чистое место, к примеру. Подтер за собой, чтоб другие не вляпались. Перед тем, как отправиться в мир иной. Сразу видно, интеллигентный человек. Или так ушел, не беспокоясь – что о нем скажут. Или припрятал до лучших времен свою Венеру Милосскую, как Агесандр из Антиохии на Миандре, чтобы потом нашли и ахнули всем человечеством – будь то рукопись истлевшая, или кукиш, вынутый из кармана, или мемуары, чтоб сразу к потомкам без посредников, хитрец! Или оставил потомков побольше, едва ли не всех красавиц страны сделав матерями-героинями, чтоб хоть таким вот способом дольше жить.
О проекте
О подписке
Другие проекты