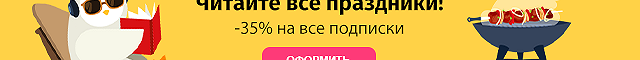
Модерн как культ нового
Вспомним Бодлера, в середине XIX столетия увидевшего в современности не столько преддверие в каком-либо смысле лучшего будущего, а нестабильность, текучесть, обрывочность жизни, на фоне которых проступают черты вечного. Собственно говоря, с Бодлера берет начало вторая традиция в понимании модерна, заключающаяся в видении его как «диалектики нового и вечно того же» и связываемая прежде всего с именем Вальтера Беньямина.
Истоки модерна Беньямин видит не в Просвещении, а в XIX веке, и связаны они непосредственно с распространением индустриального капитализма и товарного производства. Но его подход к столетию совсем иной, чем, например, у Макса Вебера. Если Вебер был зачарован «механизмом и машинизмом» XIX века, в которых наиболее ярко и непосредственно отражалась тенденция рационализации, то есть, по его терминологии, расколдовывания мира, то Беньямин, наоборот, считал, что столетие заколдовано, и виноват в этом капитализм, погрузивший его в сон. Явившийся капитализм окутал себя «снами, мифами, фантасмагориями», которые все вместе и составили духовный облик модерна. Эти «сны, мифы и фантасмагории» – не только и не столько теоретические конструкции, сколько трудноуловимые и неустойчивые культурные образования, определяющие культурный фон эпохи, проявляющиеся в моде, рекламе, политике, архитектуре, в самом стиле жизни. Как мыслитель, Беньямин сам в определенном смысле – продукт модерна, как он сам его описывает, стиль его резко отличается от стиля того же Вебера: он редко прибегает к большим формам, не планирует тысячестраничных фолиантов, пишет эссе, очерки, брошюры, стараясь именно в беглых впечатлениях жизни обнаружить основные мотивы эпохи. Его социологию не случайно сравнивают с импрессионистской социологией Зиммеля.
Но мифы модерна – не только сны и фантасмагории повседневной культуры, это и теории модерна: тот модерн, каким он является его проповедникам и каким он возвещается ими, есть миф, и задача понимания модерна есть задача разоблачения этого мифа. Таким образом, в 20-е годы прошлого столетия Беньямин сформулировал понимание модерна (и понимание капитализма) как мифологического и даже религиозного феномена в противоположность Веберу, который видел суть капиталистического развития именно в преодолении мифов. В этом свете буржуазные, как правило, оптимистические или сдержанно оптимистические теории модерна как раз и представляли собой, наряду с «маскарадом» мчащейся культурной жизни, концентрированное выражение тех самых, подлежащих разоблачению мифов модерна.
Нервом модерна, по Беньямину, становится явление многократной повторяемости и воспроизводимости, заложенное в самой сути массового капиталистического производства и побуждаемых им культурных форм. Едва ли не важнейшей из них оказывается мода, парадоксально характеризуемая Беньямином как «вечное возвращение нового». Новый продукт посредством моды стимулирует спрос. Новизна приобретает решающее значение. В новизне как таковой, в конечном счете, сосредотачиваются все интересы эпохи. Весь темп и ритм современной жизни ориентирован на исчезновение одного товара и возникновение взамен него нового – на «возвращение нового». Этим изменяются сами представления о прогрессе: прогресс ориентируется не на человека, а на постоянное обновление окружающего его мира посредством технических усовершенствований. Не лучшее даже (с точки зрения человеческих интересов и целей), а новое (хотя этим и предполагается технический перфекционизм) становится критерием прогресса. Прогресс оказывается состоящим в постоянном возвращении одного и того же – нового. «…Вечное возвращение, – пишет Беньямин, – пробудила именно “плоско рационалистическая” вера в прогресс»[10]. Отсюда и трактовка модерна как «вечного возвращения одного и того же». Идею вечного возвращения, ожившую в современном мышлении под влиянием Ницше, Беньямин считает основной формой мифологического сознания, и поэтому модерн, базирующийся на идее рационального прогресса, сводящейся к мифологической структуре вечного возвращения, и рассматривается им как эпоха, одержимая мифом, как «мир под властью фантасмагорий».
Социальная природа этого явления формулируется вполне в духе марксистской социологии знания: сама идея вечного возвращения, выступающая под маской рационального прогресса, появилась тогда, когда буржуазия увидела, что она не в состоянии понять и оценить перспективы развития освобожденных ею производительных сил. Место непроясненного будущего занял миф о вечном обновлении (индустриально-технический перфекционизм), и сама структура жизни оказалась замкнутой в заколдованном круге по видимости рационального движения по видимости вперед.
Феноменологически, на уровне человеческой субъективности «фантасмагорический модерн» отразился в явлении, который Беньямин обозначил как кризис опыта. Начало кризиса совпало с возникновением товарного производства. Суть кризиса состоит в том, что опыт (Erfahrung) оказался замещенным переживанием (Erlebnis). Опыт надо отличать от переживания. Для опыта характерна преемственность; последовательность его элементов неразрывна, опыт коренится в традиции как коллективной, так и индивидуальной жизни. Переживания же существуют по отдельности: они вырваны из смысловых связей. Высшая форма переживания – шок. Для повседневности эпохи модерна характерно преобладание шоковых переживаний.
Разрушению традиций в модерне как раз и соответствует обеднение опыта и нарастание количества переживаний, прежде всего шоковых переживаний. Вытеснению опыта переживанием соответствует замена повествования, рассказа информацией. Информация удовлетворяет совсем иные потребности, чем рассказ, более того, она ведет к конструированию совсем иного мира, где человек оказывается вырванным из взаимосвязей традиционного опыта и вступающим якобы в непосредственные отношения с миром, который по видимости близок и доступен[11].
Трактовка модерна Беньямином совпадает с преобладающей классической трактовкой в том, что модерн неразрывно связан с приходом современного капитализма, наступлением эры массового производства и технизацией жизни. Но она резко отличается от классической трактовки прежде всего тем, что модерн здесь рассматривается не как эпоха освобождения от мифов и прогрессирующей рационализации жизни, а именно как мифологическая, до предела мифологизированная эпоха. Миф в модерне вплетен в самую структуру повседневной жизни, она им буквально пронизана. Причем именно идеи рациональности и прогресса являются основными мифами модерна. В этом смысле сама концептуализация модерна в трудах классиков социологии является одним из элементов продуцирования мифов, проще сказать, она есть мифотворчество. Тогда концепция рационализации, концепция расколдовывания мира Вебера, которую, как показывает история модерна от тех далеких времен до новейших концепций модернизации, можно считать ядром самопонимания модерна – это мифологическая идейная структура.
Концепция модерна Беньямина, как это уже частично видно из сказанного, идет «снизу» – от непосредственного культурного опыта эпохи. Этот опыт проявляется в популярных, массовых явлениях par exellence, в частности, в массовых видах искусства, порожденных техническим развитием. Эти новые (для эпохи Беньямина) виды искусства (фотография, кино), а также развитие технических средств репродуцирования традиционного искусства в принципе изменили онтологический статус художественного произведения. Анализ произведения искусства в новую эпоху – в «эпоху его технической воспроизводимости» – стал у Беньямина как бы моделью социального и философского анализа модерна вообще.
Фотографический негатив, например, гарантирует производство неопределенного количества копий, абсолютно идентичных оригиналу. Разница между оригиналом и копией здесь, по существу, стирается. Непонятно, что – оригинал, а что – репродукция. И этот, казалось бы, банальный факт ведет Беньямина к далеко идущим выводам. «Даже в самой совершенной репродукции, – пишет он, – отсутствует один момент: здесь и сейчас произведения искусства – его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании. Сюда включаются как изменения, которые с течением времени претерпевала его физическая структура, так и смена имущественных отношений, в которые оно оказывалось вовлеченным. Следы физических изменения можно обнаружить только с помощью химического или физического анализа, который не может быть применен к репродукции; что же касается следов второго рода, то они являются предметом традиции, в изучении которой за исходную точку следует принимать местонахождения оригинала»[12].
«Здесь и сейчас оригинала определяют понятие его подлинности»[13]. Подлинность можно определить путем химического анализа патины, а также путем исторических и искусствоведческих изысканий, которые прояснят, например, что рукопись происходит из собрания, скажем, XV века. Все, что связано с подлинностью, говорит Беньямин, недоступно технической, да и не только технической репродукции. Но если по отношению к ручной репродукции, которая в этом случае квалифицируется как подделка, – подлинное сохраняет свой авторитет, то по отношению к технической репродукции этого не происходит. Тому есть две причины. Во-первых, техническая репродукция более самостоятельна по отношению к оригиналу, чем ручная, то есть она в состоянии более точно и многосторонне воспроизвести оригинал, чем человеческий глаз или рука, а также благодаря развитым технологиям открыть в оригинале качества, недоступные невооруженному техникой человеку. Во-вторых же, техника может перенести подобие оригинала в ситуацию, для самого оригинала недоступную. Произведение искусства движется, так сказать, навстречу публике. Беньямин приводит примеры: фотография («собор покидает площадь, на которой он находится, чтобы попасть в кабинет ценителя искусства»), граммофонная пластинка (хор, который звучал в зале или под открытым небом, можно слушать в комнате).
Эти обстоятельства, в которых оказывается репродукция, могут даже и не затрагивать всех других качеств произведения, но одно они меняют неизбежно – его, произведения «здесь и сейчас». А в этом, как сказано выше, и есть его подлинность. «Подлинность какой-либо вещи – это совокупность всего, что она способна нести в себе с момента возникновения, от материального возраста до исторической ценности. Поскольку первое составляет основу второго, то в репродукции, где материальный возраст становится неуловимым, поколебленной оказывается и историческая ценность. И хотя затронута только она, поколебленным оказывается и авторитет вещи»[14]. Авторитет вещи – это ее аура. «В эпоху технической воспроизводимости, – пишет Беньямин, – произведение искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение выходит за пределы области искусства. Репродукционная техника, так это можно было бы выразить в общем виде, выводит репродуцируемый предмет из сферы традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет его уникальное проявление массовым»[15].
В репродуцируемости произведений искусства, таким образом, как в капельке воды, отразилась основные изменения в культуре и жизни, характеризующие эпоху модерна. Это, во- первых, развитие техники. Производство и воспроизводство, продуцирование и репродуцирование суть технические (вос) производство и (ре)продуцирование. Технические возможности обеспечивают идентичность производимых предметов и точность репродукций. Во-вторых, это массовое производство (продуцирование). Своей массовостью оно также обязано капитализму. И, наконец, в-третьих, массовое репродуцирование, свойственное как капиталистическому производству, так и капиталистической культуре, приводит (и в этом, я полагаю, и состоит самая суть рассмотренного беньяминовского хода мысли) к разрыву с традицией. Как явствовало уже из краткого разбора концепций модерна, выдвинутых классиками социологии, суть модерна состоит в разрыве с традицией. Дело не только в том, что общество, предшествующее современному обществу, называется традиционным. Дело в том, что оно порывает с традицией и начинает существовать на собственных основаниях. Эти основания обеспечиваются, по Беньямину (в этом с ним согласились бы многие из классиков, прежде всего, Зиммель) капиталистическим массовым производством. И в своем анализе явления технической воспроизводимости произведений искусства Беньямин как раз и продемонстрировал механизм разрыва традиции. Это и есть анализ того, как приходит и воцаряется модерн, и как опыт, суть которого в укорененности в традиции (а «единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции»[16]), замещается переживанием.
Беньямин не был традиционалистом и антимодернистом. Он как раз отчетливо осознавал варварский характер «традиции», то есть эпохи до-модерна, полагавшейся на голую силу, обожествление властителя и т. д. Другое дело, что он считал, что «традиция» продолжается и в модерне, прежде всего в силу его мифологического характера, что чревато новыми приступами варварства. Надо признать, что в последнем он оказался прав. Мыслители Франкфуртской школы (Адорно, Хоркхаймер) продолжили беньяминовскую линию критики модерна, продемонстрировав в «Диалектике Просвещения» тесную связь просвещенческого, модернизационного мифа с варварством XX века – фашизмом. Пожалуй, еще более явно проявляется связь с Просвещением другого мощного мифа – социалистического. В каком-то смысле под его чары попал и сам Беньямин. Он видел возможность преодоления мифологии модерна в политических преобразованиях, которые привели бы социальные отношения в соответствие с уровнем технического и индустриального развития капитализма. При этом он был далек как от идеи технического и экономического детерминизма, так и от идеи автоматизма социального прогресса. И то и другое как раз роднило марксизм с рационалистическим видением модерна. Беньямин же хотел «расколдовать» модерн, в мышлении связав прошлое с настоящим, соединив гуманистическую традицию (без варварства) и индустриально-техническое настоящее (без мифа).
Следовательно, пафос видения модерна Беньямином – это пафос преемственности. Показав, что модерн традиционен – в том смысле, что мифологичен, – он оспорил идеи теоретиков рационалистического модерна, настаивавших на резком противопоставлении современности и традиции. С другой стороны, если взять современных идеологов постмодерна, также подчеркивающих принципиальную новизну этой эпохи по сравнению с уходящей эпохой модерна, то и здесь свидетельство Беньямина ex post mortem будет свидетельством в пользу преемственности эпох.
О постмодерне речь пойдет в следующем разделе. Но уже здесь можно видеть, что ряд феноменов культуры и познания, рассматриваемых теоретиками постмодерна как свидетельства наступления (или даже едва ли не основные характеристики) новой эпохи, рассматривались Беньямином как главные признаки эпохи модерна. Во-первых, это само явление массовой репродукции (как принципа воспроизводимости произведений искусства и принципа капиталистического производства вообще), породившее едва ли не самый крупный из обусловленных модерном переворотов в жизни человечества. Французский философ Ж. Бодрийар, один из главных теоретиков постмодерна считал именно массовое копирование – порождение «симулякров» – центральным феноменом индустриального и культурного опыта, характерного для новой эпохи. Камень важный, но не главный в интеллектуальном строительстве Беньямина, Бодрийяром в его постройке был положен во главу угла. Во-вторых, в беньяминовском анализе бытования произведений искусства в эпоху модерна подчеркивалось, что именно репродуцирование создает принципиально новую возможность существования произведения искусства в различных контекстах. Вещь при этом, как отмечал один современный исследователь, «ремотивируется», приобретает новые значения, совершенно отличные от тех, что она имела первоначально, так сказать, в оригинале. Здесь, собственно, Беньямин обнаруживает истоки и формулирует первоначальное объяснение и обоснование того, что теоретики постмодерна считают крайне характерным для этого нового культурного времени явлением, именуемым по-разному в разных теоретических и языковых контекстах: «коллаж», «пастиш», «монтаж», «бриколаж».
Наконец, в-третьих, в беньяминовском учении о кризисе опыта, противопоставлении опыта и переживания и, соответственно, рассказа и информации задолго до нынешнего времени было осознано и объяснено в качестве одной из главных черт повседневного опыта модерна, то, что Ж.-Ф. Лиотар, можно сказать, инициатор осознания постмодерна как культурно-исторической эпохи, сформулировал как распад «grande écrite» – больших повествований. Эта идея стала буквально паролем постмодернистов.
Все это говорится не с целью закрепления за Беньямином интеллектуального приоритета. Цель этого краткого и неполного перечня тем и проблем, общих Беньямину и «постмодернистам», состоит в том, чтобы показать, что вопрос о разрыве и преемственности в культурных эпохах – не простой вопрос. Может быть, постмодерн не так нов, как о том заявляют его приверженцы, может быть, он начался еще в начале века, когда работал Беньямин. Тогда о современной эпохе можно говорить как о позднем модерне, что, впрочем, и делают многие нынешние философы. У нас слова «постмодерн» и «поздний модерн» будут употребляться как (почти) синонимы. Подробнее о постмодерне еще пойдет речь ниже.
О проекте
О подписке
Другие проекты