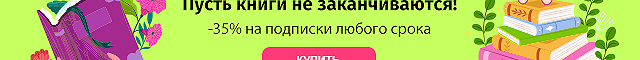
Кроме того, у неё есть мама и папа. Она прописана у них в Луге, а туда далеко ездить. Вот она и ночует у меня – время от времени. Она говорит родителям, что проводит ночь у подружек в общежитии, а летом она работала в студенческом строительном отряде. И, вообще, я такой замечательный и со мной ей так нравится, что она с удовольствием останется здесь навсегда.
Вот это – не надо.
В начале осени она звонила и приходила реже. Как-то её не было почти две недели. На мой вопрос: где она пропадала? – она ответила, что у неё могут быть свои увлечения. Я похвалил её и сказал, что повышаю её в звании: теперь она будет моим товарищем.
– Трахаться мы больше не будем? – спросила она.
– Отчего же, – ответил я, – не годится прерывать такие приятные занятия.
– Тогда я не товарищ, а хотя бы любовница.
– Нет, – сказал я строго, – ты будешь как бы моим другом, но с элементами сексуальной близости – будешь моим боевым товарищем.
– А-а, – протянула она, – так у меня ещё не было.
И продолжала появляться у меня с прежней непринуждённостью налетающего, откуда не весть, ветерка.
Сегодня она не придёт. Обычно она звонит днём и справляется: буду ли я вечером дома. Надо придумать, чем занять себя. Браться за медленно поглощаемого Пруста не хочется. Завтра разговор с Тоней, поднимет воспоминания о работе, взбаламутит гущу. Тоски по утраченному времени и без того хватает.
Варево моё примиряет меня с утратами. По-настоящему тягостно не одиночество, а страх перед ним. Многих, особенно, женщин угнетает привычное: а что скажут люди? Сидит одна и не нужна никому. И про мужика тоже подумают: слабак, сыч одинокий. Мало кого интересует другая сторона: сам себе тоже нужен.
Вечером развлечься не трудно. Я читаю – в глазах уже не рябит. Если бы не гейство его треклятое, сказал бы что Пруст мой любимый писатель. Кошу глаз в телевизор – там скука рекламно-сериальная.
Незаметно, время приближается к одиннадцати часам.
Всё бы легче переживалось, не потеряй я любимую работу. Мои горести начались с этой потери. Классика. Таких, как я легион. Номинально меня ничего не лишили. Трудовая книжка до сих пор лежит в отделе кадров нашего института, как бы ещё существующего.
Я не в обиде на перестройку, прикрывшую нашу программу. Плохо другое. Строили, строили и вдруг – на тебе: давай перестроим по-новому. Приладили бы сбоку какой флигелек с мезонином или ремонт под евростандарт закатали. А тут – давай крушить без разбору. Но, что говорить: какой есть дом – такой и будет. Приживёмся и в перестроенном. По мне бы только ракеты запускали. В одиночку не сдюжить – требуется объединение. Какие социальные схемы позволят реализовать это – мне безразлично. Моё участие в конструировании корабля было не значительным: моя группа разрабатывала кресло, в котором обезьян должен был находиться во время полёта.
Работа увлекала меня. Космос – понятие с трудом поддающееся осмыслению. Мы как-то очень быстро приспособили это слово к нашим неуклюжим попыткам выбраться из земной колыбели. Сначала говорили об освоении околоземного пространства. Это было правильно, но не прижилось. Настоящего то космоса мы ещё и не нюхали. Мы ещё как малые дети, которым хочется знать: что там – за пределами нашей комнаты, квартиры, дома?
Что он для нас? Необъятный простор, ждущий нашего проникновения… Чёрная пустыня, требующая от нас всё новых жертв…
Планета наша – огромный космический корабль. Вместе со всей солнечной системой мы движемся по вселенной. Солнце когда-нибудь выработает свою энергию и придётся перебираться в другое место, где теплее. Торопливо беспокоиться об этом, пожалуй, рановато, но и забывать не следует.
Хорошая тема для успокаивающего размышления перед сном. Я заставляю себя почистить зубы и ложусь на свой диван. Я представляю себе Обезьяна, летящим к Марсу. Он и был моей работой. Для полёта, из двух имевшихся, выбрали мужскую особь. Мы не дали им милых кличек. Мы определили их по родам: она была Обезьяна, а он, соответственно, Обезьян.
Его круглая волосатая голова склоняется к иллюминатору – за толстым стеклом бесконечное звёздное небо. Он откидывается в своём кресле. Это не простое кресло, а сложнейшее устройство, полностью обеспечивающее всю его жизнедеятельность.
Специальные захваты подают ему тубы с едой и сосок с питьём. На его конечностях браслеты датчики, они же пускают по мышцам электрический ток, заставляющий их ритмично сжиматься. Это хорошо действует против гиподинамии. На черепе металлический венчик для снятия энцефалограммы – он говорить не умеет и не может пожаловаться на плохое самочувствие. Прямо перед ним экран – по команде с земли на нём появляются разные фишки, специально для него разработанные. Одни картинки, в сочетании со звуками служат командами, другие успокаивают, третьи развлекают. В модуле шелестит листва – космическое безмолвие отрицательно сказывается не только на людях. Он будет слушать музыку. Мы подбирали мелодии, которым он отдавал предпочтение. Нам хотелось как-то скрасить его пребывание в маленькой капсуле с искусственно очищенным воздухом и консервированной водой.
Его одиночество будет абсолютно, не как моё – квартирное. Его удаление от других земли превысит всё бывшее ранее. В космических размерах движение его капсулы мизерно – в размеры нашей планеты оно уже не вписывается. Пугающее и манящее одновременно обстоятельство.
Его готовили к этой миссии, не спрашивая согласия. В том была некоторая подлость, и она не искупалось предоставленной ему честью быть посланцем Земли в просторы солнечной системы. Если бы мы смогли ему объяснить, а он смог бы понять, для чего с ним проделываются все эти манипуляции, и предоставили ему право выбора, он, скорее всего, послал бы нас куда подальше, и предпочёл бы раскачиваться на дереве в каком-нибудь приличном зоопарке. Мне сомнителен его интерес к жёлтой планете.
В какие-то моменты он умно смотрел на нас и старался работать. По нему было видно, когда он валял дурака. Его серьёзный настрой заставлял и нас действовать слаженнее.
Космические полёты для человечества будут чем-то вроде пирамид для древних Египтян. Благоприятный климат способствовал созданию избыточного продукта. Свободные силы надо было на что-то направить. Пирамиды пришлись как нельзя кстати. Наше продвижение к другим планетам, возможно, будет чем-то подобным.
Возникает и проблема, указанная ещё великим Циолковским. Развиваясь, мы меняемся. Всё чаще говорят о Х-людях – результате воздействия на человека научно-технического прогресса. Возможно, за проникновение в просторы вселенной нам придётся заплатить нашей биологической самостью: мы превратимся в пластмассовые и металлические конструкции, способные существовать практически в любых условиях и без ограничения во времени. Если же мы останемся в нашем биологическом обличии, то дальнейшее развитие космонавтики будет похоже на то, что мы видим сейчас. Мы будем строить корабли со сложными системами обеспечения жизненного цикла, решать проблемы психологической совместимости и занятости космонавтов на борту огромных космических дредноутов.
* * * * *
Утром я чувствовал себя прекрасно – вчерашней усталости как не бывало. Произвёл в квартире обстоятельную уборку, потом заехал в гараж. Знакомый сторож, за деньги малые, разрешает мне мыть машину на гаражной мойке, оборудованной даже горячей водой.
Жучков на кузове меньше не стало. Хорошо бы весной покрасить моего дромадера, а ещё лучше – продать. Были бы только деньги на другое авто. Временами я теряю веру в то, что мои обстоятельства изменятся в лучшую сторону.
В бодром настроении на чистой машине выезжаю я за ворота. Денёк так себе: солнышко светит, но не ярко. Где-то высоко перистые облака гасят силу лучей – осень.
К Папуле я приезжаю около часа дня. Он стоит у окна на кухне. Машу ему рукой и жду, пока он оденется, запрёт дверь и спустится на лифте с третьего этажа вниз. Всё делается им по-старчески медлительно. Я нарочно остаюсь в машине, чтобы не раздражаться этим.
Наконец он появляется. Когда он не бодрится, видно, как сильно он постарел: остренькие плечи, сухие кисти рук, лицо – сеть морщин.
– Сдал я совсем, – он понимал, что усаживался в автомобиль слишком долго. Мы выбираемся из двора и катим по широкому проспекту.
Говорить нам не о чем. Всё, что касается брата, мы уже обсудили по телефону. Других тем нет. Через пару километров он тяжело вздыхает:
– Ты от нас отошёл. – Украдкой смотрит на меня, пытаясь понять, получится ли у нас душевный разговор. Я поглощён управлением автомобиля.
– Моей вины в этом нет, – провожу я черту между нами.
Тяжёлый вздох повторяется, и дальше мы едем молча. Напряжения нет, но и говорить нам не о чем. Медленно пробираемся от Чёрной Речки к Ушаковскому мосту. Панорама реки меня успокаивает. Мне не хочется вспылить, если он прогнусавит что-нибудь из обычного своего репертуара. Я хочу по Чекаловскому проспекту попасть на Первую Линию, и дальше, по Большому проспекту добраться до больницы. Время удачное – мы почти не стоим в пробках.
– Машин сколько стало! – восклицает он.
– Да, не мало, – я не слишком стремлюсь продолжать беседу. У нас с ним разные оценки дорожной ситуации. Мы ненадолго прилипаем у Петровского стадиона. Я вспоминаю, как он водил нас с братом на матч гигантов, в каком-то далёком семидесятом году. Хорошее воспоминание – я благодарен ему за это. Мать в последнюю минуту отговорила его не идти на спортивную арену в форме. Я тогда очень гордился тем, что отец у меня военный – он служил в войсках связи – и старался как можно лучше учиться, наивно полагая, что хорошие оценки помогут мне в соперничестве с братом за его внимание. Я поздно понял, что мои успехи в школе его более раздражают, чем радуют. Сам он окончил десять классов и какое-то среднее военное училище и не любил «умненьких», как он называл людей с высшим образованием.
Сидит, молча – нахохлился. Сейчас задаст каверзный вопрос, и я наперёд знаю какой. И точно – спрашивает:
– Как у тебя с работой? Нашёл что-нибудь?
Прямо под вздох. Сидел, просчитывал, и не сдержался. Ткнул пальцем в больное место.
– Вот моя работа, – чуть не кричу я, и бью обеими ладонями по баранке. – Мне никакой другой не надо. Кормит прекрасно, и с весёлыми девчонками дело хорошо обстоит.
Последнее у меня вырывается неожиданно для самого себя. Не хватало ещё, чтобы он спросил у меня про Обезьяна, а потом заявил, что запускать на Марс шимпанзе – глупость. Доходило и до этого. Я бы не удержался и ответил резко. К брату мы явились бы в невесёлом настроении.
Моя выходка действует на Папулю как стоп кран, на набирающий ход поезд. Не чванился бы он, не всезнайствовал, я бы любил его и сейчас. Но он, человек военный – у него своя спесь.
На светофоре я кошу глаз на маленького, беспомощного теперь старика, сидящего справа от меня. Мне трудно вспомнить его уверенным в себе красавцем офицером, за одно одобрительное слово которого, я, в своей мальчишеской жизни, готов был на всё что угодно. Сейчас я воспринимаю его, как реликтовое растение, сохранившееся благодаря уникальному стечению обстоятельств. Его мнение о том, что мне следует делать, а что нет, для меня ничего не значит. Но, то детское обожание не истёрлось и временами проявляет себя.
Больницы я не люблю: специфический запах – пахнет лекарствами, дешёвой едой, хлоркой; много белого – халаты на персонале, постельное бельё. Больничная суета – опять же. Медсёстры, нянечки со швабрами, доктора. Последние выглядят увереннее прочих. Куда-то передвигаются немощные больные. За этим гомоном, покрывающим человеческие страдания, скрывается конечное – смерть. Специально об этом не думаешь, но раз ты здесь, оно в подтексте.
В палате Папуля выкладывает на тумбочку свои приношения: сок, апельсины, кусочек нежирной докторской колбаски. Брат нудит: ну чего принёс – зря беспокоился. Напрасно он так. Старику важно хоть что-то для него сделать, хоть чем-то помочь. Он с утра ходил в магазин, чапал, с трудом переставляя ноги, и ему хочется, чтобы сыну всё понравилось.
Я оставляю их – пусть посекретничают.
Антонина встречает меня весело. Серая мышка, с неопределённой причёской, и глазки серенькие. Росточка невысокого, фигурка – не оглянешься. Отношения у нас чисто дружеские.
Что она мне скажет, я приблизительно знаю, и она подтверждает мои догадки. Понимает ли мой брат, что с ним происходит? Человеку за сорок и ему всё подробно объяснили в больнице имени Святого Георгия, бывшей имени Карла Маркса.
Она выдерживает небольшую паузу, чтобы показать строгость глаз своих. Никакую операцию брату делать нельзя. Элементарно не выдержит – инфаркт слишком обширный. В связи с этим возникает второй вопрос, интереснее первого. Сколько проживёт? Возможно, недолго. Повезёт, но это при условии соблюдения предписаний, проживёт и два десятка лет. На всякий случай, ему не плохо бы подготовиться к тому, что события могут развиваться наихудшим образом. Речь идёт о каких-то последних делах, которые необходимо сделать. Написать завещание, исповедаться, дать родственникам какие-то распоряжения. В его положении имеет смысл задуматься обо всём этом. Пришло время сделать то, что откладывал много лет. Лучше, когда человек подготовлен к такому варианту. Это и для окружающих легче. Особенно больно, когда все уверовали в полное излечение, предписания забыли, таблетки пить перестали, а всё оборачивается по-другому. К сожалению, советам следуют редко.
Она говорит всё это с некоторой бравадой – не значительной, но заметной. Она, конечно же, не распоряжается продолжительностью жизни своих пациентов, но она распределяет очередь на операции. Авторитет её среди больных высок.
Тема разговора серьёзная. Мне бы расстроиться – войти в трагизм положения. Но я замечаю на ней футболку или пуловер тонкой шерсти – не знаю, как правильно называется это одеяние – выгодно подчёркивающее лёгкий загар оттенком бежевого, какой бывает на нижнем белье. Смотрится сексуально.
– Ему может помочь какое-нибудь увлечение, – улавливаю я.
– В молодости он увлекался живописью. Но с кистями и холстом я его давно не видел. Года три назад он намарал этюдик в холодных тонах, как он выразился. Да в таких мрачных, что и смотреть не хочется. Женский профиль и в отдалении горы – полная чушь. Жалко испорченных красок.
– Такое не подойдёт.
– А то, что он влюблён?
Глаза её вспыхивают: положительные эмоции это то, что нужно. Я прикусываю язык. Всегда ли с этим делом связаны положительные эмоции? Но ей я говорю о великой силе любви, и о том, как она может преобразить жизнь человеческую. Это сработает и с моим братом. Наверняка сработает. Он теперь часто заговаривает со мной о ней. Жизнь, быть может, приобретёт для него особый смысл под воздействием чувства. Женщины легко верят в такие штуки. Но она видит мою браваду и улыбается – не без горечи.
Мы застаём брата и Папулю в палате. Брат полулежит на кровати, а Папуля сидит на стуле рядом. При нашем появлении, брат встаёт. Поднимается и Папуля, и сразу же берётся за свою мятую сумку из болоньи. Знакомясь с Тоней, он склоняется в учтивом поклоне. Хорошо получается: сдержанно, уважительно по отношению к себе и, одновременно, почти подобострастно. Видна военная выправка. Он тут же прощается с братом, кивает мне:
– Ты не заедешь?
Знает, что не заеду. Вопрос задаётся, чтобы показать какая у нас дружная семья. Так же церемонно он прощается и с Тоней. Видно, что он ей понравился.
Когда папуля уходит, она принимается за брата. Я хотел увильнуть, но было сказано, что и мне полезно послушать.
Началось с вопросов. Как всё было? Когда? Терял ли сознание? Много ли пил? Занимался ли спортом? Брат отвечает игриво: у него всё это уже много раз спрашивали. Получив достаточную информацию, она нам подробно рассказывает, что такое инфаркт и коронарная недостаточность. Брат продолжает глуповато улыбаться. Ему скучно. Он это уже слышал. Лекция получается длинноватой, и потому я думаю о том, как бы у нас с ней всё было в постели.
В какой-то момент она замечает, что её не слушают, и сворачивает своё выступление. Брат облегчённо вздыхает. Воспитывать его в сорок с лишним лет просвещающими лекциями дело бесперспективное. Но ЭКГ надо повторить. Брат упирается:
– Вчера делали.
– Ничего страшного – сделаем и сегодня. Потом ещё и суточный мониторинг надо провести.
– Таскаться целые сутки с аппаратом? – спрашивает брат с деланным испугом. Лицо его искажает гримаса ужаса. Игривость его неуместна, и производит неприятное впечатление. В том, чтобы сутки походить по больнице с коробочкой весом в триста грамм нет ничего страшного.
Они скрываются за дверью кабинета. Мне мучительно хочется, чтобы он выздоровел и стал, пусть не прежним, но, хотя бы, разогнул спину, перестал шаркать ногами по полу, подстриг сальные локоны, свисающие ему на плечи, сбрил бы куцую растительность со щёк. До болезни он был опрятным человеком. Сейчас этого не скажешь. Бегал бы опять по своему цеху; купил бы себе большой автомобиль с широкими колёсами, о котором по-мальчишески мечтает; возил бы на нем свою актёрку в театр, а после удачной премьеры загружал бы её, вместе с корзинами цветов от благодарных почитателей, на заднее сиденье, и вёз, торжественно, по всему Невскому проспекту домой. Но такому развитию событий я ничем не могу поспособствовать.
– А он фрукт у тебя, – говорит Таня, появляясь из-за двери кабинета, – Плохая у него кардиограмма. Плохо и то, что больные обычно интересуются механикой дела, а у него больше иронии. С таким подходом ….
Можно не договаривать – без того всё ясно. Но, не пить – не курить; не завязывать мимолётные знакомства секса ради; не работать, так, чтобы жилы лезли из-под шкуры; и, дойдя до одури, пуститься отдыхать – тоже так, что дым коромыслом и уши в трубочку. Вместо счастливого, внахлёст существования размеренные прогулки по аллеям парка. Приём лекарств – по часам и строгим схемам. Питание только полезными продуктами, а не, боже упаси, шашлыком с костра. Тает во рту, жиром стекает на ладонь. К нему тонкое вино или денатуратную водку – уж как повезёт. Без этого стоит ли городить огород? Я молчу сконфужено.
После ЭКГ Таня отправляется к себе – переодеться. Мы с братом идём в его палату. Мы передвигаемся медленно, взвешенно. Мне трудно выдержать такой темп, но я подчиняюсь.
Кроме кровати брата, у противоположной стены палаты, ещё кровать и больничная тумбочка, прикрытая белой бумагой. Её обладателю два месяца назад делали коронарное шунтирование. Он уже неплохо себя чувствует.
– Завтра выпишется, – мотает головой в ту сторону брат.
Сейчас он серьёзен и смотрит на меня внимательно. Кураж весь вышел. Что сказала Тоня? Что хорошее может сказать врач! Операцию ему делать не надо. Не надо мягче звучит, чем нельзя. Кровать напротив пуста: шунтированный пошёл смотреть футбол. Ему шанс выпал – брату нет. Брат тоскует – я сочувствую.
– Ну что же, – говорит он, – придётся пить таблетки и вести размеренный образ жизни.
В момент принятия столь важного решения появляется Антонина. Брат встаёт, они церемонно прощаются. У брата нет той чёткой сдержанности, которую с лёгкостью демонстрирует Папуля.
Ехать нам недалеко – всего три перекрёстка.
– Буддизм, – говорит Тоня тем же тоном, каким читала свою лекцию, – кроме прочего, проповедует добровольный уход из жизни. Наступает момент, когда человек своё прожил и сознательно подготовленная смерть – благо. Монахи в монастырях, расположенных высоко в горах, наставляют желающих подготовиться к смерти. С суицидом ничего общего. Это осознанное принятие конечности своего существования. Там это переживают многие.
Я молчу – сказать мне нечего. Глубокие снега, ледники, густые туманы, старцы в длинных одеждах, заунывно поющие на непонятном языке длинные молитвы, и при всём этом мой, улыбающийся во всю свою округлую физию братец. Она видит мою оторопь.
О проекте
О подписке
Другие проекты
