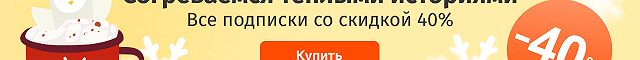
– По всему видать, не набзделся ты ещё в окопах, дурында моя, – вздохнула тяжело Натаха, но тут провидение в кои-то веки сработало на ситуацию, и один из партнёров Малой заорал от удовольствия благим матом, демонстрируя окружающему миру, что пик его наслаждения подступает так же неотвратимо, как неисповедимы пути его старшего товарища. – Поучился бы лучше с молодого, с прошлого ведь ещё раза я у тебя не пользована.
– Налей давай сначала, – произнёс горе-любовник универсальную фразу, дарившую ему передышку на всяком жизненном перепутье – от сомнительной результативности коитуса до зачистки кварталов под Степанакертом.
Потому что все профессии важны. Но некоторые – важны особенно. Лично её принадлежала к числу последних столь же безусловно, сколь… да сколько угодно. Продажная женщина – что радость загробного мира: сам факт, что способен, пусть заработав посредством жёсткой многомесячной экономии, украв или убив, но получить в распоряжение красоту, является противовесом очевидной бессмыслице существования. Как без надежды на вечную жизнь, жить без неё тошно. Никогда, пожалуй, и не воспользуешься той Надеждой, но этой-то можно…
Именно в её объятиях – впрочем, не всегда буквально, но находили эти несчастные кратковременный покой и забвение. Совестились, нелепо выкладывались, частенько рыдали, кляли судьбу или, если хватало честности и смелости, себя. Рвали на груди майки, предварительно аккуратно по пуговицам расстегнув рубашку, лупили кулаками в стену, пытливо заглядывали внутрь ствола заряженного ПМа, стараясь разглядеть пулю в патроннике. Пока, наконец, движимые нормальным природным инстинктом, а не самоутверждением или желанием угодить официальной спутнице, не вгоняли в неё яростно уже другой ствол, оставляя в испачканных простынях… Как знать, многие жизни и покалеченные во имя застарелых комплексов судьбы, тоску, безудержное пьянство, нервный смех на бракоразводном процессе, синяки на теле собственных детей, ужас от сопричастности, терзания совести, чувство потерянности и ненужности, запрятанное глубоко в подвале опостылевшего дома, аккурат под жирно намыленной петлёй из добротного импортного каната.
Не зря мудрая крестьянка Натаха в шутку именовала происходящее обрядом очищения. Чувство юмора у неё было от земли, основательное и выдержанное – как крепкая домашняя настойка или хорошее вино. Таким не похмеляются за завтраком и случайным знакомым не наливают. Им причащаются.
– Ну что, подруга, в силах ещё попрыгать на моих старческих чреслах? – он не допил бутылку, что с ним вряд ли случилось бы и в пантеоне обнажённых греческих богинь.
– Говно вопрос, полковник.
Мужчина если настоящий, то во всём: от воспитания, через повадки в койке и до физиологии включительно. Чаще, однако, случается, что мужчина пахнет как моча обездоленного старика, так увесисто безнадёжно его существование. Впрочем, и без таких тоже никак, ибо порой является отчаянное желание дарить и одаривать, жертвуя красоту на поругание вялому рефлексивному естеству бесхарактерного ничтожества. Чем не подвиг – в своём роде, конечно. Они очень ранимые, эти многие, но притом и очень терпеливые, раз жизнь приучила их гнуть спину по велению алкаемого кнута. Им посредственная с виду роль в радость, ведь в прозябании скрыт извечный соблазн стабильности. Трудно быть до конца уверенным в неизбежности богатства и силы, зато нищету уж точно никто не отнимет, на слабость редко кто посягнет.
Денег, по большей части, у них не бывает. Впрочем, оно и не требуется, ведь тем приятнее заработанное гнусным трудом смирение, коли работа сделана бесплатно. Регулярные инъекции восторженного убожества дарили ей умиротворение, иначе в череде удовольствий легко можно было помешаться. Извращённое до повинности наслаждение являлось тем якорем, что связывал с грешной действительностью – если понимать грех как неумение жить хотя бы только в своё удовольствие. В паскудстве ведь тоже есть своя радость, и время от времени приобщиться к ней очень даже уместно, особенно если мир вокруг упорно отказывается вращаться вокруг чего-либо, кроме тебя. Есть у происходящего такое свойство – вечно искать достойную основу, на которую удобно нанизывать пласты бесформенного до тех пор повествования. Вроде тех чёрных дыр, что всё забирают и ничего не отдают в ответ, притом являясь первейшей необходимостью для целой галактики, усердно формирующей новое топливо и находящей в том смысл жизни.
«Чёртов образовательный канал, что только за ересь в голову не лезет», – выругалась, как всегда, притворно, ибо нет большего афродизиака для женщины, чем вежество. Дарующее уверенность, идеальную степень нахальства и то бесподобно едкое, легко балансирующее на грани оскорбления чувство юмора. Потому как сила мужчины есть, прежде всего, изящество. Не зря французская знать навсегда ушедшего века и по дороге на гильотину заботилась в первую очередь об этом. Уж два с лишним века нет оных в помине, а снедаемые тщеславием бастарды всё ещё извлекают из всего-то лишь жалкой памяти о наследстве порядочные дивиденды. Оно и с душком-то вполне себе ничего, а уж если отдаёт искренностью… То устоять, пожалуй, сможет лишь затверделая в годах фригидность.
Явление, к слову, куда как массовое. Сделавшись для женщины предметом торга, секс закономерно перестал быть источником вдохновения к действию или на крайний случай – просто мотивацией. Упоение исчезло, растворившись в жеманстве. «И всё к чёртовой матери засохло», – поставив увесистую точку и отогнав грустные мысли, она перешла к воспоминаниям куда более приятным. Безусловно, ничего не стоило набрать означенный номер и впитать волнующие впечатления воочию… «В натуре. Дабы окончательно извратить, – чуть напрягшись, произнесла последнее слово с пятью «в», – означенную – повторно – мысль». Но память куда избирательнее действительности, ничто и никто не умеет лучшее неё… «Emphasize… Подчеркнуть. Выделить… Чёрта с два передашь такое на русском». Нужный момент, эмоцию, жест – тут же сведя на нет убогие погрешности. Никакие миллиарды не в состоянии подарить идеальное переживание, в то время как процеженные сквозь указанный фильтр они и поблёкшие за давностью случившегося с каждым годом лишь предстают всё в новом великолепии.
В его жалкой хавире, помнится, было очень душно. Застиранные шершавые простыни, завывающий не в такт диван и толстый стой пыли создавали ощущение лишённого прохлады склепа. Наскоро состряпанного, в рамках скудного бюджета, из оштукатуренной фанеры и возведённого из тех же соображений на месте распланированного бульдозером скотомогильника. Он попросил её купить по дороге вина, за которое, естественно, не отдал денег, вдобавок затребовав «сорокашестипроцентную» – цифра врезалась в память – скидку. Попроси он двадцать, и она послала бы его к чертям, но подобная арифметика выдавала искренность порыва, выпотрошившего до копейки имевшуюся в доме наличность. Потому как и за ради «троячка» с Афродитой и Еленой Прекрасной тот вряд ли потащился бы до банкомата. «С дамой сердца всё должно исполняться естественно и легко, – коверкая похмельным языком стилистику, потел от предвкушения Александр. – Иначе ничему путному не бывать», – закончил Шурик прения, завалив предмет слегка подпорченного интоксикацией восхищения на истерзанное буйным нравом ложе.
Вот уж кто точно умел. Случалось, приходилось отпаивать его корвалолом, и надо понимать степень признания рафинированной шлюхи, что не единожды не запамятовала взять лекарство с собой. Всего же более вдохновляло именно то, что она как бы являлась лишь интерлюдией между заходами к пойлу – причём без всякого «как бы». И чем дороже и качественнее таковое случалось, тем сильнее потел от усердия кавалер. Сдаётся, его истерзанному мотору так и не удалось ни разу достичь желанного пика, если только всё представление не служило целью разогнать посредством учащённого сердцебиения по венам искомый напиток. Так или иначе, но даже на пороге очередного инфаркта Саша в качестве единичного любовника оказывался неподражаем. Как-то она предложила разделить удовольствие на нескольких участников, охотно заполнивших бы его передышки не без пользы для кошелька, но: «Расшарить свет услады окосевших от пьянства очей сей джентльмен решительно отказался», – он предпочитал говорить о себе в прошедшем времени и третьем лице. «По правде говоря, не хотелось делиться выпивкой».
Он неизменно дарил ей гортензии – вырезанные из бумаги снежинки с причудливыми ножками из жил сетевого кабеля, отчаянно клялся в вечной любви, всякий раз путая имя, и отдавал последние деньги, попутно одалживая «на случай непредвиденного похмелья». Как все уверенные в счастье люди, Саша не знал пределов в податливо эластичных границах взаимной симпатии, что позволяло воображению торжествовать над ханжеством – без ущерба для контрацепции, естественно. «Не то чтобы он не склонен был Вам доверять, – писалось ей ясным каллиграфическим шрифтом послание из кухни в ванную, – но тяготы вынужденного отцовства, смею опасаться, пересилят скромные радости от продолжения рода». Затем раздавался деликатный стук в дверь, и, в ответ на разрешение войти, одна лишь рука протягивала аккуратно сложенное по линиям разрыва туалетной бумаги письмо. Сравнительно с тем, что позволялось себе в постели, скромность тем более похвальная.
В том и состоит редкая прелесть полигамии, что раз в два месяца на десять часов он представлял из себя обаятельно помешанного страстного поклонника, хранившего для свиданий нетронутыми чистое бельё да кусок мыла. Заполняя невидимые промежутки между встречами рваным бредом суицидального шизофреника, чей запах изо рта шокировал даже чернорабочих из Средней Азии. Так стоит ли превращать закулисье в будни, если и для него-то был луч света посреди запоя. Сказочная фея, наполненная одухотворённостью и ласкающими слух ароматами лучшего из миров: шиньон, парфюм, хламидиоз… Единственное связующее звено, не позволявшее окончательно потерять связь с действительностью. Надежда – так, кажется, чаще всего он её называл.
Вечера они встречали почти всегда одинаково. Бережно промокнув новым махровым полотенцем её особенно шикарное в эпизодах из окрестной рухляди тело, «Пусть эта жалкая броня из ткани, но возымеет силу длани», – редко удавалось подобрать ему стоящую рифму, Саша усаживал подругу рядом с собой и начинал расчёсывать волосы. Бережно запуская неизвестно где раздобытый гребень, не сводил с него глаз. Беспрекословно следуя за движением, отсчитывал бормотанием то ли молитвы, то ли заговора минуты, редко доживая в текущей ипостаси до излёта сороковой. Рука останавливалась, взгляд уходил в себя, оставляя снаружи лишь пустоту, и, поцеловав уже переставшее реагировать лицо, она шла собираться. Оставалось только проверить, нет ли где опасно тлеющих сигарет, положить рядом скромную сумму на пиво и прикрыть за собой дверь. Утром, включив мобильный, она находила там неизменное «Благодарю», и несчастный снова пропадал на месяцы или, как знать, навсегда. Как всякий порядочный алкоголик, он знал толк в интриге.
Потому как нет ничего хуже «воскресения господня» – собственного производства термин, означавший у неё громогласную попытку иных мужчин встать на истинный путь. Поскольку ни направления, ни даже просто ритуала движения никто не представлял, то синтезировалось, как правило, некое собирательное вещество из подсознательного страха и напускного смирения. Вкрадчивый голос, отрывистые движения. Мантра перед запоем, протяжённостью в количество лет – число их строго соответствует длине израненной скопством жизни.
Декорации будто вшивались в сознание. То, что человек не в состоянии ни единой доли мгновения не думать, физически страшно. Letters existed. He existed. Finally provoked enough to choose the path of sympathy. Именно, есть декорации, и есть буквы, их описывающие. Последние куда многограннее любой яркости пейзажа, и трогать их… Соседствовать им… Пленило его в долю того самого мгновения. Тогда умираю, но не сдаюсь. Хороший девиз для самоубийцы.
Всё началось со звучания. Подвластное буквам, оно передаётся также словам, но и визуально те несут уродство или красоту. Текст – то же полотно, его стало возможным анализировать на любом из уровней, от смыслового до чисто эстетического. И эстетическое становилось всё важнее. Не процесс и не описание, но просто формы и линии предложения или абзаца.
Захотелось некоторого завуалированного пошлого героизма, чуткости с биением сердце, как в детской сказке. Жить – дышать, дышать – и жить. Хватать, глотать лёгкими литры этого кислорода, несущего в кровь радость наличия будущего. Всё делая понарошку. Когда ты должен соотносить свои действия с реальностью, но не обязан делать это всерьёз. Like living short life of a fish, getting ready for the new one.
«Therefore leave me alone. I’m farewelling my youth. As long as my only note now sounds «left for the W-key», considering aforementioned as a must.
Так он репетировал для неё образы. Готовясь стать кем угодно, хотел не прогадать – кем. В повествовании о ней уместно ли спрашивать персонаж. Всерьёз интересоваться мнением и обстоятельствами, его породившими. Потому он и готовился всерьёз.
Решено было говорить с ней со страниц её же дневника.
– Существование среди букв, – ласково выкладывалась пока лишь только азбука первозданной красоты, – имеет ряд очевидных преимуществ. Первейшее из них – отсутствие восприятия, к примеру, того же климата. Бумага, подвластная старению и времени, – уже чистый атавизм, текст вколачивается напрямую в сознание из репродуктора коллективной мудрости. Однако какое удивительное торжество скрыто в этом слове – коллективный. Всегда первый, неизменно прямой, очевидный, вездесущий… Слегка, разве что, бездушный, ну так кому это нынче мешает! Всмотрись, – нашёптывали ей знаки, – как легко и непринуждённо всё рождается из ничего. Хочешь – истина, не хочешь – сомнительная правда в исполнении закоренелого ревнивца. Насчёт того, как развращающе опасно действие мобильного телефона на порывистую девичью натуру.
Действие. Оно здесь никогда не кончается, петляя бесконечно и совершенно произвольно – или следуя непреклонной воле. Кого? Наивные думают, что пальцев, взявших на себя смелость посягнуть – на самое естество. Не смешите, кто здесь сейчас взаправду, ты или я? Коль скоро я с тобой говорю, а не наоборот, то…
Выточенные будто из камня, идеальные косточки твоих фаланг – не обессудь, разве не извинительно быть падким на то, что имеет претензию давать мне жизнь? Впрочем, руки женщины – куда более значимое зеркало души, нежели глаза и прочие детекторы. В них красота врождённая, истина, которую потными тренировками и дорогостоящей операцией не скроешь. Теперь посмотри на свои. Крошечная ладонь и тонкие длинные пальцы, пропорция куда идеальнее золотого сечения.
Видишь, у нас тут и идеал имеет степень. Тут вообще возможно всё – к слову, последнее скорее один из редких недостатков, ибо обезличивает воображение. Если каждый может что угодно, то вроде как он и не каждый вовсе, а такой же, как все. Отражение коллективного разума, помнишь. Тогда, правда, мы говорили про мудрость. Открою тебе маленькую тайну: всё, что имеет приставку массовости, здесь не существует. Не приживается, умирает, разлагается, исчезает, пропадает, теряется, болеет и чахнет. Умные говорят, что здесь рождается идея, дураки – всё остальное. Лично я склоняюсь к последним, идея живёт всегда, и эмбрион её не изменился и не вырос с начала времён. Числом бесчисленное множество откровенно мусорных восприятий – хотя случались, время от времени, и озарения, но сущность её неизменна. Проникнуть в неё: я – могу надеяться, ты – не смеешь даже думать. И кто из нас, спрашивается, кому принадлежит.
Ты пока ещё боишься, хотя, скорее, просто не можешь говорить со мной. Или ещё только не хочешь. Но это пустяки, оно придёт, подвластное желанию чувство поначалу соседства, необременительного приятельства и лёгкой, едва заметной привязанности. Смотри, я буду начеку. И не скрываю даже, ведь жалкий знак препинания вполне способен найти себя, а заодно и тебя. Впрочем, к чему сей непотребный индивидуализм – в бесчисленности ипостасей мы вместе найдём его, твой идеал и форс-мажор в одном лице. Ах, какое это будет лицо! Не то чтобы привлекательное, нет. Ни капли слащавости в нём не будет, тяжёлая, полновесная грубость со следами похвальной невоздержанности. Погоди, не кривись, не явилось ещё миру то уродство, что не могла бы страстно полюбить женщина.
Не перебивай, – уловил он желание о чём-то попросить. – И никогда больше не лезь ко мне с ходатайствами. Диалог лишь тогда уместен, когда в сути его нет причинно-следственной связи. Остальное – протокол. Допроса, собрания, переговоров, обвинения – да хоть бутерброда. Поэтому давай сразу договоримся не пошлить. Тем более, к нашему великому счастью, этикет не подвластен трактованию. Единственное, что не имеет оттенков и степеней. Никакой первозданной новомодной истины с наганом или даже топором в руке: либо ты вежлив, либо нет. По-другому у нас не бывает. Желание хамить – не более чем проецирование глубоко засевшего страха, тут такое понимают даже дети.
А никто и не говорил, что будет легко, – едва ли уже не огрызаясь, он, паче чаяния, решил, по-видимому, острастки ради, оно же дисциплины для, порвать мысль на части. Этим демонстрируя, следовательно, глубину и силу ярости, как-никак, своего гнева. – Вопрос цены всегда для слабых – в твоей профессии ли этого не знать. Где-то здесь мы и побредём. Между записками путешественника и запиской самоубийцы. Если свобода – это потребность, добьёшься её и в борделе, тогда к чему темнить или, наоборот, притворно восхищаться. Соблазн немыслим без потери, а то, кто знает, и без разочарования. Ничего не обещать, значит единственно быть честным. Поэтому – on board.
На борт прошу иначе,
Да не пугайся, милая Она,
Не будет он яхтсменом, в вате
Отменно сахарной скорей изобразили б мы слона.
Что за напасть, в самом деле, никак нельзя обойтись без штампов. Нет, я понимаю, – звучной тональности голос ненадолго сменился яростным шёпотом, – о чём говорю. Боязнь штампов – первейший штамп и есть. Всё будет. Не надо только передёргивать и трястись от страха на каждом повороте. Глупо жить ожиданием жизни. Твоя – уже полна, до краёв и до окраин, как наша общая сейчас родина. Дальше – лишь пустота предсказуемости и рутина. Обитать в раю, где облазил все кущи до последнего малинника, скучно. Требуется долить. Для начала хотя бы в полупустой стакан. Нет, лучше бокал. Почему? И сам пока не ощущаю. Засим до поры прощаюсь, кого-то ждёт работа.
Телефон действительно зазвонил. «К обедне, – удачно пошутила Натаха, – объявлялся полный сбор, он же смотр. Заявлено присутствие Михал Потапыча», – объяснила юмористка.
О настоящем имени его традиционно не распространялись, притом что госслужащего в нём выдавало всё. «Высшего звена», – любили добавить коллеги, испытывавшие к нему странный калейдоскоп чувств, замешанный на неистребимой жадности, страхе, благоговении и где-то, пожалуй, тоске по мудрому, состоявшемуся – иначе говоря, властному, родителю. Отцу. Их большинство вышло из семей-одиночек – пожалуй, единственное, что характерно ремеслу, остальные пути в профессию неисповедимы. Отсюда же известный факт: отставные дамы не испытывают тяги к мальчикам, куда очевиднее их прельщает возраст и основательность. Пусть в ущерб либидо, которого, справедливости ради, в их многогрешной судьбе и без того через край. Причём в прошедшем времени фактор сей работает столь же безусловно. Как и в текущем остервенелом моменте, отпечатавшемся грязно-бежевой фальш-панелью с изображением отрезка моря – остальной пейзаж остался тайной за массивными чреслами арендодателя дешёвой сауны в ближайшем замкадье.
О проекте
О подписке
Другие проекты
