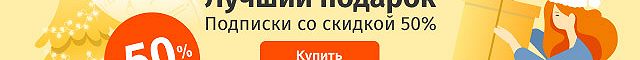
Только никак не могли уснуть в маленьком почти вросшем в землю домишке Ивар, получивший хорошую трёпку и его мать, наплакавшаяся и накричавшаяся до хрипоты.
– Опять, небось, бегал к своему Стеклодуву? Доведёт он тебя до беды.
Что молчишь, или я не с тобой разговариваю? Совсем от рук отбился… Нет на твою задницу отцовского ремня! Ладно, молчи. Доиграешься ты когда-нибудь, отправят тебя в детские казармы…
Ещё раз тяжко вздохнув, Йордис загасила свечи на столе, кроме тусклого огарочка над разделочным столом.
Ивар закрыл глаза, оставил только узенькую щёлочку, чтобы видеть маму. Крепко она на него сегодня рассердилась. Уле заодно досталось, а Ула уж совсем ни при чём. Конечно, мог бы и предупредить, мол в Гавани задержится – ну там рыбу ловить будут или что ещё, так самому в голову не пришло, что до темна загуляет. Не так жаль, что мать полотенцем отходила, как жаль, что расстроил её. Она ведь волновалась, за него, дурака, беспокоилась, а он ей наговорил глупостей каких-то, что и связали его, и привязали, и шагу ступить не дают. Что сам уже взрослый. С чего его вдруг понесло? Он-то, взрослый, спать лёг, а ей ещё от печи не отойти. И за день натопталась, не присела – воду таскала, тесто месила, начинку крошила, пироги лепила, да его, взрослого, кормила-обстирывала. Надо бы прощения попросить, так язык не повернётся.
Йордис засадила первые противни в печь, закрыла заслонку. Ивар зажмурил глаза плотней – мать шла сюда. Он не видел, как она поправила на Уле сбившееся одеяльце, наклонилась и поцеловала спящую девочку, зато почувствовал, как мама наклонилась над ним, потрепала спутанные вихры, как подняла с полу одёжку. Он снова приоткрыл глаза на узенькую щёлку. Не обманулась:
– Спи уже, горе луковое, завтра вставать рано.
Элис осторожно пробиралась между старыми стульями, сосланными за ненадобностью на чердак. В запылённые, наглухо закрытые слуховые оконца едва пробивался дневной свет. Неосторожное движение и девушка оступилась, какой-то битком-набитый узел с ненужным тряпьём свалился на пол, подняв тучу пыли. Элис не удержалась и звонко чихнула. Михаэль с упрёком покачал головой – тише, внизу никто не должен нас слышать. – Он расчистил место на дубовом старинном сундуке – и как эту тяжесть сюда затащили? – достал из-за пазухи и расстелил поверх резной крышки чистый платок.
– А ты у нас парень хозяйственный.
– А я тебе о чём? И хозяйственный, и работящий – чем не жених? И на рожу, вроде, не кривой. Садитесь, сударыня. Вот так. Ну и я рядочком примощусь.
Так что ты мне скажешь.
– О чём?
– Как о чём, о нашей свадьбе.
– Уж больно ты тороплив.
– Так не поторопишься, глядишь, и опоздаешь.
– Больно красноречив.
– Так сам себя не похвалишь, кто похвалит? Ну, что скажешь?
– Что скажу… – Вроде чердак как чердак. – Ни гула постороннего, ни шорохов, ни потрескивания в балках… Тихое местечко. Обыкновенное. Хозяева, правда, давно здесь не бывали, похоже, даже белья для просушки не вешают. Не пойму, что мне здесь не нравится…
– Вот ты про гул сказала. А обрати внимание – помещение это просторное, стенками не перегороженное, здесь от любого звука должно не то что эхо, но какой-то именно гул идти. А все звуки как в вату. Вот и чихнула ты как в вату, и куль с тряпьём на пол без особого шума упал.
– Точно. А ещё присмотрись – на каждом чердаке то голуби топчутся, гурлят, то воробьи шум поднимают, да и кошкам вроде на чердаке самое место. А здесь?
– Никого. Ну что, отдышалась?
– Да, можно работать. Ну-ка, привстань с пригретого местечка и платочек убери, мало ли кого сватать придётся. – Михаэль беззвучно спрыгнул с сундука, Элис, не обратив внимания на протянутую руку, спрыгнула следом. Растопырив пальцы девушка стала «вслушиваться» в стены.
– Михаэль, а что вон там? – Элис показала на серое неровное пятно высоко над балками.
Стеклодув, ни слова не говоря, взял прислонённую к стене стремянку, приставил к кирпичной кладке дымохода и словно кошка взобрался на широкое тёсаное бревно под самую крышу.
– Красиво глядишься – восхитилась приятелем Пряха. – Ну-ка, подвинься чуток.
Михаэль и глазом моргнуть не успел, как Элис, взлетев по лестнице и ухватившись за балку, оказалась рядом.
Стеклодув присвистнул.
– А ты думал? Нам, пряхам, и не такое выделывать приходится.
Нравится пятнышко?
– Не то слово. Ещё парочка-другая таких проплешин, и Нихель в город как в открытые ворота войдёт.
– Ну, это ты зря, щиты над Виртенбургом крепко стоят. А вот мысли людские, настроения… Ладно, хватит болтовни. Латаем?
– Латаем. Только как дотянуться?
– Разберёмся. Я начинаю.
Элис попрочнее уселась на бревно. В руках замелькал, будто перескакивая с ладони на ладонь, серебристо-белый клубочек. Ниточки, тоненькие, словно паутинки, невесомо повисли в воздухе, потом стали переплетаться меж собой и втягиваться в пятно, словно их кто туда всасывал. Клубочек становился всё меньше и меньше, но и пятно стремительно уменьшалось. Когда клубок уменьшился так, что ещё чуть и он истает, Михаэль достал тонкий, прозрачный как стекло, лоскут и балансируя на бревне, словно заправский циркач, накрыл этим лоскутом пятно. Лоскут влип, как клеем намазанный.
– Уф, можно перевести дух. Как я боялся, что мембраны не хватит, надо срочно новые выдувать, это была последняя.
– И ниточек что-то маловато осталось, ой, маловато! А полнолуние ещё нескоро.
Ну, кто первым слезает?
– Я. Лестницу тебе подстрахую – вон ты как вымоталась, аж пальцы дрожат.
– Ничего, подрожат и перестанут. Зато мы его сделали.
Уже спустившись, посидели немного на сундуке, сгрызли по яблоку.
– И чего у тебя только нет в карманах!
– А как же, бывалый путешественник должен быть запаслив и предусмотрителен. Слышишь?
– Что?
– Эхо. Эхо наших слов!
– О, гляди-ка, воробей! Кажется, окна наглухо закрыты, а уж он тут как тут – шустрая, однако, птаха!
– Значит, справились. Вроде, теперь в этом районе чисто?
– Ребята проверят. Устала?
– Немного. Какой это у нас чердак?
– Девятый.
– Ничего себе! Дай бог, чтобы последний. Вот так, Эмиссара два года как нет, а кто-то Нихелю опять мостит сюда дорогу.
– И, кажется, мы знаем, кто.
Ладно, пошли, а то хозяева лестницы хватятся.
По-осеннему быстро на вечерние улицы стала наползать темнота, мелкая морось висела в воздухе, не проливаясь настоящим дождём. Из-за закрытых ставен, из-за плотных штор выбивались узкие полоски света.
– Ну чего ради я ребятню сюда потащила? Сидят они сейчас дома запертые, куксятся, не знают, чем себя занять, им бы по улицам побегать, а я и отпустить их пока не могу, изведусь вся. Город этот стылый изведёт…
И тёмный осенний город, ухмыляясь битыми стёклами погасших фонарей, тревожно шурша опавшими серыми листьями, дуя в спину зябким ветром, прогудел с издёвкой: – Из-з-веду-у!.. Из-зведу-у!..
Михаэль приобнял девушку за плечи и той стало чуть теплее на душе, да и ветер, словно извиняясь, принёс откуда-то бледно-жёлтый тополиный листик, и положил у самых ног. Элис нагнулась, подняла скромный подарок. И город, будто убедившись, что перед ним свои, снял пугающую маску, улыбнулся горько и печально.
– Скажи мне, Михаэль, вот казалось, Круг борется за правое дело, нам бы на всех углах кричать: – Люди, опомнитесь, встаньте рядом, помогите нам, самим себе помогите! – Так нет, мы молчим, мы таимся, мы называемся чужими именами, живём под чужими личинами, зато «охотники» ходят по городу открыто. И открыто зовут за собой. Да, люди их боятся, но это не мешает ими восхищаться, считать жестокость признаком мужественности, видеть в «добровольческих отрядах» своих защитников. И мальчишки глядят на них восторженными глазами и пытаются подражать своим кумирам!
– Люди полны тревоги. Они не могут понять, что происходит, а тот, кто всё это сплёл, очень умело тревогу нагнетает. Очень умело дёргает за ниточки, распускает слухи. Людям на самом деле плохо, тоскливо, неуютно, они не могут понять причины и ищут виновных, ищут врага. Пророки и проповедники на площадях стращают карой небесной, добрые старушки на лавочках повторяют страшилки, девочки в белых платьицах, словно призраки, бредут по улицам распевая раздражающие псалмы, тощая кошка, суля неприятности, перебегает дорогу – всё это враждебно, всё это окружает обыкновенную привычную жизнь сжимающим кольцом, и нет защитника, готового дать отпор. И объявляются такие «охотники». Вот она – реальная сила, вот он – герой, способный обрушить карающую длань или что-там у этих – дубину? топор? нож в сапоге?
Кому мы будем что-то пытаться объяснить? Да нас бы самих сейчас врагами не объявили. Вон – капурёшки извергами и нечистью уже побывали, теперь настал час кошек. Завтра колдуний начнут искать. А кто ты, если не колдунья? Я так уж точно – чернокнижник и пособник зла. И ты хочешь, чтобы народ толпами пошёл под наши знамёна?
Не обольщайся, Элис. Да хоть встань мы рядом с новоявленными пророками и проповедниками, хоть изорись на площадях, кто нас услышит? А кто готов услышать, тех и звать не надо, сами находят к нам дорогу.
Но ведь таких, к счастью, немало? Сколько новых людей только за последние дни пришло в Круг! И это – главное.
Элис погладила маленький желтый листочек, словно он был живым существом.
– Я тебя расстроил?
– Нет, я и сама это всё понимаю.
Ветру надоело мести отяжелевшую от влаги листву по булыжной мостовой, набрав силу, он подхватил сырые охапки, сорвал с деревьев остатки того, что больше походило на старую паутину, чем на праздничный осенний наряд, и понёс, кружа, над острыми крышами, над спешащими домой прохожими, над крутыми скалами, над сумрачным морем: – прочь эту гадость отсюда! Про-очь!
* * *
За зелёными шторами в маленькой гостиной на первом этаже знакомого дома фрёкен Кнопс вела светскую беседу. На покрытом кружевной скатертью столе в строгом порядке были расставлены до блеска начищенный посеребрённый кофейник, фаянсовый сливочник с пышными розами на белом глянцевом боку, синяя резная сухарница с рассыпчатым печеньем и крохотными профитрольками и четыре маленькие фарфоровые чашечки на четырёх маленьких фарфоровых блюдечках, четыре невесомые, почти прозрачные, чашечки с золотыми букетиками в овальных медальонах, предмет зависти соседок и законной гордости хозяйки. За столом улыбались друг-другу старший приказчик из соседнего магазина, сама фрёкен и две её старинные приятельницы .
Герр Питерссен, усатый представительный мужчина, отхлёбнул приторно-сладкий напиток и продолжил хорошо поставленным бархатным голосом с той же чарующей интонацией, с какой он убеждал очередную покупательницу не раздумывать напрасно, и непременно, непременно купить так идущую ей модную шляпку, а, заодно, и тончайшие элегантные перчатки как раз на её милые ручки – он, конечно, не считает себя вправе советовать, но ведь никто не может поручиться, что через час сюда не заглянет её ближайшая подруга, а такая шляпка всего одна....
– Милые фру и фрёкен, мне ли доказывать вам, что кошка – зверь коварный и вредоносный?
– Ах, эти твари плодятся с такой скоростью, что дай им волю – весь мир заполонят. – Фру Бергссон двумя пальчиками взяла из сухарницы крохотную профитрольку с кремом. – Скоро в нашем городе людям места не останется.
– И только подумайте, сколько у них нашлось защитников! В одном доме на нашей улице хозяйка пригрела чуть не десяток этих!.. У меня и слов нет, как их назвать! – Фру Зондерс передёрнула плечиком. – Она, правда, это зверьё на улицу не выпускает, но всё равно!
– А хоть кто-нибудь из кошачьих защитничков задумался, за кого заступаются? – вновь подхватил нить беседы герр Питерссен. – Это только с виду кошки ласковые да нежные, а на деле твари это с чёрной душой, колдунам прислужники, ведьмам помощницы. – Добропорядочный приказчик частенько слушал уличных проповедников и порой в самых неожиданных местах вставлял полюбившиеся ему весомые, праведным гневом исполненные обороты. – Кто видел, каким огнём ночью горят кошачьи глаза, не усомнится в моих словах. Может и приносят они пользу, ловя мышей, да никакой пользой вред от их… – тут он замолчал, не сумев вспомнить красивой фразы, – ну, в общем, этот вред не окупится. А мышей и мышеловкой можно ловить. – Он оглядел своих собеседниц, ожидая, что хоть одна из них станет оспаривать общеизвестные истины. Но собеседницы внимали его словам одобрительно и наш оратор продолжил: – Сколько всяких историй люди про них рассказывают, а вам всё не в урок. Вот в деревушке за фьордом кошечку – это слово он произнёс нараспев, вложив в интонацию весь сарказм, на который был способен, всё презрение к жалостливым дуракам, и снова повторил как плюнул: – «Ко-ошечку!» – подобрали, выходили, с собой в постель спать клали, а в одну прекрасную ночь вцепилась эта пушистая красавица ребёнку в горло – едва не загрызла, хорошо нянька, девчонка соседская, проснулась и кинулась хозяйскую любимицу от младенца оттаскивать, так ей кошка аж до костей руки располосовала, а вы говорите – «кошечки!» – Любезные фру и фрёкен возмущённо переглянулись – ни одной из них и в голову бы не пришло защищать «этих тварей». – Одну такую кошечку взял юнга на корабль, его предупреждали, так он тайком её в трюм пронёс – мол от крыс. А кошка не придумала ничего лучше, чем точить когти в одном и том же углу. Вот и доцарапалась до того, что в дыру хлынула вода и корабль потонул. Никто, увы, не спасся.
– А ещё, я вам скажу, – не могла не вставить своё веское слово фрёкен Кнопс, – есть в этих милых с виду «невинных созданиях» большая колдовская сила. – Вы, герр Питерссен точно подметили, что глаза у этих отродий в темноте сверкают! Мудрые люди не зря говорят – уж если кому кошка на плечо села и там умастилась, ведьма это или колдун! – И хозяйка, изящно отогнув мизинчик, поднесла драгоценную чашечку ко рту.
Неприветливый скалистый берег навис над неприветливым осенним морем. Мерно ударяют холодные серые волны в серый гранит. Там, где скалы расступаются, ограждая широкую бухту, раскинулся Порт и все его хозяйственные сооружения вроде складов и погребов. Чуть дальше – торговый пятачок – рыбный базар. Ещё дальше – переулочки и закоулочки с лавками, тавернами, пивнушками разного калибра, небогатые домишки рыбаков, ремесленников, портовых грузчиков и отставных матросов. А уж там, за колоколом, за погребами, словно отделённый некоей границей от портовой и городской суеты – район бывших дач. Когда-то он был модным, но потом как-то вдруг опустел, хозяева съехали, и большинство дач стоят заколоченными. За дачами – широкий каменистый пустырь, а за пустырём – старые государева аптечного ведомства огороды. Сами огороды чуть не полвека назад перевели на другой конец города, где земля получше и аптеки поближе, а здесь самосевом из года в год вырастали одичавшие заморские травы вперемешку с родными лебедой да полынью. Изредка забредут сюда отчаянные травники да согбённые в три погибели бабки-знахарки, но всё это в летнюю пору, а сейчас место безлюдно, ни единой тропочки не пробито через перепутавшиеся дикими космами травы.
Ну а дальше – седой бурьян встал непролазной стеной окружая кольцом Горелую башню, куда люди и в летнюю благодатную пору опасаются заходить.
Но в одном месте трава едва заметно примята – здесь, похоже, начиналась тропинка, которой хоть и не часто, но всё же пользовались, и никуда эта скрытая в травяной чащобе тропа не могла вести, кроме как к прОклятой башне.
Тревожные мысли мелькали в голове рослого парня в тяжёлых башмаках, и бежать хотелось отсюда куда-подальше. Не первый день приходил он сюда и, схоронившись за валуном, ждал неизвестно кого. Выследить и перехватить. И пусть тот в другом, ещё менее уютном месте расскажет, что потерял в разрушенном гнезде колдуна.
Но никто не приходил. И только порою вспыхивал в пустых проёмах окон неяркий свет да, взметнувшись чёрной тучей, вырывались из-за порушенных стен летучие мыши, проносились с противным визгом над самой головой и исчезали в портовых закоулках.
Налетел пронизывающий до костей ветер, от которого не спасала ни тёплая стёганная куртка, ни глоток огненного пойла из припрятанной на груди фляги. Ветер трепал иссохшую траву, нёс мелкий, режущий глаза песок откуда-то с далёких дюн. Вот он поднапрягся немного и выковырнул парня в крепких башмаках из его убежища, поддал в спину так, что тот еле на ногах удержался, и погнал, словно ворох ржавой листвы, прочь из этих мест. Про-очь!
Низко загудел тревожный колокол, предвещая бурю, предупреждая моряков и рыбаков о грядущей напасти, зовя искать убежище в надёжных бухтах и шхерах. Потом, на короткое время, всё стихло, словно в театре перед тем, как взовьётся занавес. И началось: – Свинцовое море вскипело белыми бурунами, Всё выше и выше вставали глыбины волн, летели с разбегу на дикие скалы, ударялись неукротимыми лбами о гранит и рушились, давая место новым великанам.
Три дня и три ночи бушевал шторм. Три дня подряд никто в порту не высовывал носа из-под крыш. Три дня подряд над городом клубились тучи и громыхала гроза. Три дня подряд никто, без особой нужды, не вылезал из своих домов, стараясь держаться поближе к тёплым каминам или печуркам. Три дня подряд Элис уходила куда-то надолго и возвращалась промокшая насквозь, озябшая, запредельно усталая и,не смотря ни на что, довольная.
А через три дня буря стихла и Элис, вернувшись на этот раз довольно рано, чуть не с порога заявила детям: – Всё, на этой улице мне больше делать нечего, а фрёкен, как вы её называете?..
– Фрёкенкнопс.
– Фрёкен Кислый Рафинад.
– Вот эта самая фрёкен мне порядком поднадоела. Завтра переезжаем.
– Ура!
– Тише. Вы хоть спросили бы – куда?
– Куда?
– Куд-куда, угадайте с одного раза.
– Неужели?
– Ужели.
– Ура!
– Тише.
– Ура, мы едем к дядюшке Мартину!
– Причём, меня можете теперь называть по-прежнему, вредной тёткой Элис.
– Элис, ты самая лучшая на свете тётка!
– Погодите, это ещё не всё – с завтрашнего дня можете носиться по городу, сколько вам угодно, конечно, в пределах разумного, а то, вам позволь, вы и ночевать в погребах останетесь. А теперь, можете кричать своё «ура!», только шёпотом.
– Ура! Ура! Ура!
– Угомонитесь! Вы же меня задушите!
– А можно?..
– Задушить?
– Так можно?
– Теперь можно, пусть приезжают.
– Тра-та-та! Гип-гип-ура!!!
О проекте
О подписке
Другие проекты
