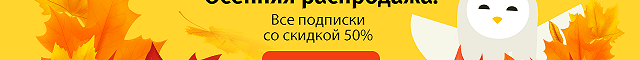
У Павловой есть несколько текстов, обращенных к Ростопчиной («Мы современницы, графиня…», «Графине Ростопчиной», «Три души») и построенных на приеме противопоставления. Космополитке, петербуржанке, жорж-сандистке, аристократке, заласканной похвалами красавице и свободной артистке (дилетантке) Ростопчиной Павлова противопоставляет свое славянофильство, скромность, самодостаточность, «оседлость», домашность и профессионализм (ремесло). Некоторые из перечисленных самохарактеристик неточны или будут опровергнуты дальнейшей жизнью Павловой, которая решится на публичную ссору с мужем и развод, покинет Россию и проживет последнюю часть жизни в Германии. Но главное в этом споре – не биографические контрасты (или сходства), а подчеркиваемая Павловой разница в понимании сути и роли женщины-поэта. Она оценивает позицию Ростопчиной как ренегатство, предательство «дара». В поэме «Три души» Павлова пишет о женщине-поэте, которая превратила «святой дар» в «гремушку звучную», выбрала «пошлость привычную», «житейский гул», «светский шум» – ради похвал, удовольствий и наслаждений. Ростопчинской «звучной гремушке» Павлова противопоставляет свою «немую» музу, свой «грустный стих» и понимание поэзии как «святого ремесла» («Ты, уцелевший в сердце нищем…»).
Описанный поэтический диалог имеет принципиальное для понимания истории женского творчества значение. Ростопчина и Павлова выбирают разные способы творить в патриархатном мире. Евдокия Ростопчина принимает «правила игры», она остается в сфере, легализованной как женская, но разрушает ее изнутри, точнее она пере-писывает, пере-певает разрешенное патриархатным дискурсом по-своему, выделяет свое «курсивом» (выражение Нэнси К. Миллер38). Этот женский курсив в случае Ростопчиной – прежде всего интонирование; стихия собственно женственного, женский язык Ростопчиной связаны с мелодией, музыкой, ритмом, звучанием и т. п. (в этом смысле Павлова очень точно говорит о «гремушке звучной»).
Каролина Павлова выбирает путь сопротивления феминизации, путь упорной и (как она постоянно подчеркивает) безнадежной борьбы за право женщины писать «неженственно», писать так и о том, о чем ей пишется, не оглядываясь на рекомендации и окрики цензора-мужчины. Обретение голоса совершается путем преодоления мук немоты. Тема «немоты», «безглагольности», «безмолвности», невыразимости и т. п. – ключевая для Павловой – очевидно связана не только с общеромантической традицией, но и с драматической борьбой за женское право на речь.
И та и другая стратегии женского письма – значимы и продуктивны, но осознание этого стало возможным только при гендерно ориентированном чтении поэтических посланий названных авторов. У современников же Ростопчина имела репутацию беспутной женщины, а Павлова – мужеподобной женщины39.
Однако для другой части патриархатных критиков эти различия не существенны: важны не реальные произведения реальных поэтесс, а существующие у них априорные представления о женском творчестве. Потому М. Салтыков-Щедрин называет лирику Павловой «мотыльково-чижиковой»40, а В. Переверзев обвиняет Павлову в том, что она ничего не видела и не слышала, кроме салонного общества и пустых светских разговоров, и красиво изображала только этот «ничтожный мирок» без всякого «самоуглубления и самоанализа»41.
Однако любой внимательный и непредвзятый читатель не может не увидеть, что именно самоуглубление и самоанализ – главное в лирике Павловой. Это поэзия, рассказывающая об упорстве сопротивления судьбе и пошлости повседневности, о сокровенной жизни души, идущей от одной «безнадежной надежды» к другой, это стихотворная история потерь, бесполезных обольщений, одиночества и в то же время свидетельство торжества воли и жажды идти. Это лирика, полная рефлексии и беспощадного самопознания; напряженно-эмоциональная, но абсолютно не сентиментальная (даже в любовной теме). Неудивительно, что ее (иногда с восхищением, иногда с презрением) называли «мужской». Однако лирическая героиня (не герой!) Павловой не маскулинизирована и не беспола – это всегда женщина, и женщина-поэт. Общечеловеческие и общеромантические вопросы об экзистенциальном одиночестве человека и непонятости поэта в ее стихах имеют очевидный гендерный акцент. Ключевой для Павловой мотив пути оказывается особенно трагическим, потому что идея пути «не предусмотрена» для женской судьбы: женщина из рая невинных мечтаний сразу переходит или к «пошлой жизни взаперти» светских приличий, или к страданиям и разочарованиям нереализованной души, которая «помнит о себе, как будто о чужой» («Да много было нас, младенческих подруг…», «Люблю я вас, младые девы…», «Laterna magica»). Эта душевная «сокровенность» усугубляется женской «немотой». «Безглагольна перед светом / Будешь петь в тиши ночей. / Гость ненужный в мире этом, / Неизвестный соловей!» («Нет, не им твой дар священный…»). Мотив немоты связан с образом как женщины-поэта, так и женщины как таковой, душа которой не умеет, не научена говорить, не может выразить себя.
Названные темы слиты вместе в очень необычном тексте Павловой – повести «Двойная жизнь» (1844–1847), где в прозаической части рассказана «обыкновенная история» светской барышни, а из поэтических фрагментов, описывающих ночную жизнь ее души, мы узнаем, что Цецилия – одаренный поэт, хотя об этом никто (и прежде всего сама она) не догадывается. В полусонных грезах «немая» героиня встречается с неким «строгим гением»42 и обретает речь, получает потенциальную возможность рассказать свою историю от первого лица, но именно в этот момент, как замечает Катриона Келли, история, собственно, и заканчивается43. И все-таки драма Цецилии не поглощена молчанием: она рассказана сестринским голосом автора повести-поэмы, о чем говорит «Посвящение»: «Вам этой мысли приношенье, / Моей поэзии привет, / Вам этот труд уединенья, / Рабыни шума и сует. / Вас всех, не встреченных Цецилий, / Мой грустный вздох назвал в тиши, / Вас всех, Психей, лишенных крылий, / Немых сестер моей души!»
Жестко критикуя женский мир и принятые репрезентации женственности, Павлова постоянно их обсуждает, пытается отстоять право на речь и на живую жизнь для себя и для своих «немых» сестер. Подобная тема и дискурс сестринства неожиданно сильно звучит и в творчестве Надежды Дуровой – в ее романтических повестях и особенно в знаменитых «Записках кавалерист-девицы». Мы сталкиваемся здесь с удивительным парадоксом: взяв себе в жизни мужское имя, нося до конца дней мужской костюм и ведя мужской образ жизни, Дурова все свои тексты пишет от лица женского повествователя, и так называемая «женская тема» занимает в них одно из ведущих мест. Наиболее открыто и безбоязненно поставлены вопросы о месте и положении женщины в традиционном патриархатном обществе в упомянутых «Записках» Дуровой и особенно в главах о детстве, где центральными фигурами являются мать и дочь, отношения которых изображаются жестко и драматически, вопреки сентиментально-идеализирующей традиции. Образ матери (и других женщин) связан в «Записках» с мотивом надзора и принуждения. Зависимость, стереотипность, отсутствие возможности выбора, исконная неполноценность, подверженность неусыпному наблюдению и контролю и тому подобное подчеркнуто маркируются другими людьми (и особенно матерью) как неотъемлемые атрибуты женственности. Оставаясь в пределах женского мира, героиня видит для себя только два выбора: смириться с предназначением вечной рабы и невольницы или стать «чудовищем» с точки зрения общественного мнения. И она находит третий путь: чтобы остаться собой, она должна перестать быть женщиной, сделаться солдатом. Рассказывая необыкновенную историю своей жизни, Дурова создает легенду о женщине, получившей свободу и возможность самореализации, вопреки всем стереотипам. Частью такой самореализации является и ее автодокументальный текст, написанный от лица женщины44. Важно и то, что, несмотря на весь эксцентризм собственного выбора, Дурова не отделяет себя резко от других женщин и неоднократно (особенно рассуждая о проблемах женской доли и несвободы) прямо обращается в тексте к своим «молодым сверстницам». Обсуждение проблем женственности и мужественности, как уже отмечалось, можно видеть и в некоторых романтических повестях, написанных Дуровой (например, «Игра судьбы, или Противозаконная любовь» и др.).
Однако, превратившись в 30–40‐е годы XIX века в доминирующий литературный жанр, новеллистика попала под особо жесткий контроль патриархатных институций (книгоиздательство, журналистика, критика, цензура). Как исключительно маскулинная романтическая концепция гения-пророка, так и теории социального реализма с их требованиями к литературе – быть учителем жизни и активно участвовать в идеологической борьбе – априорно выбрасывали женское как второстепенное, незначительное и частное на обочину литературного процесса45. Женское было узурпировано мужской литературой и существовало, по выражению Б. Хельдт, в ситуации underdescription – унижения, умаления, подчинения и подавления46. Идеализированное, инфантилизированное, деиндивидуализированное женское было частью мироконцепции, где реальным женщинам и женщинам-писательницам не было места.
Однако, как мы попытаемся показать ниже, женщины, несмотря на диктат и принуждение канона, сумели и в прозе «исподтишка» дестабилизировать его, найти или создать возможности для самовыражения. Их инновации были связаны не с центральными, с точки зрения критики, категориями идей и идейных споров или логикой развития сюжетных парадигм, а прежде всего с нарративными практиками и смещением акцентов в изображении как главных, так и второстепенных персонажей. Проблематизируя понятия «периферии» и центра», ведя подкоп под стенами, их разделяющими, писательницы 40–50‐х годов создавали предпосылки для творческой легализации женского – и женского голоса.
Главным прозаическим жанром для женщин в первой половине XIX века была повесть. Жеанна Гейт говорит о том, что наиболее часто женщины писали «диагностические» (проблемные) повести, светские повести и тексты, фокусировавшиеся на женской тематике47. Катриона Келли отмечает, что наряду с использованием – одновременно – внутренней трансформации жанра светской повести женщины-писательницы 1830–40‐х годов создали новый инвариант новеллистического произведения, которое исследовательница называет провинциальной повестью («provincial tale») и определяет его как «прозаическое повествование средней длины, действие которого происходит в русской деревне, изображающее борьбу молодой женщины-протагонистки против ограничений ее жизни тем, что прилично и ожидаемо от девушки из помещичьей семьи48». То есть можно говорить о том, что, используя существующие и популярные жанры и изобретая собственные жанровые разновидности повести, писательницы стремятся переустроить культурное пространство таким образом, чтобы найти там место для женской героини и женского письма.
Наиболее заметными фигурами в женской прозе первой половины XIX века были Мария Жукова (1805–1855) и Елена Ган (1814–1842).
Практически все исследователи творчества Е. Ган49 сходятся в том, что ее интересовал прежде всего тип необычной женщины, феминизированный вариант романтического изгнанника50. Необыкновенность главного женского персонажа создается разными путями: использованием экзотического материала («Утбалла», «Суд божий»), доведением некоторых традиционных мотивов в описании женщины до plus ultra (настоящее «бешенство» самопожертвования в «Теофании Аббиаджио» или в «Нумерованной ложе») или изображением «сильной» героини, испытывающей процесс романтического отчуждения, конфликт с окружением (толпой) – как Ольга в «Идеале» или Зенаида в повести «Суд света». Истории двух последних героинь во многом схожи: материнский рай детства, ранняя смерть матери, которая делает героиню беззащитной, гонения толпы, обвиняющей в излишнем уме и гордости, самопожертвование ради другого, неоправдавшиеся надежды на семейное счастье. И тот, и другой текст завершаются рассказом героини о самой себе, повествованием от первого лица, лейтмотив которого – ощущение личностной нереализованности и отказ от обычной жизни в пользу духовного подвижничества. Резкий конфликт женщины с окружающим миром, критическое изображение мужских персонажей позволяли некоторым исследователям называть Ган «русской Жорж Санд», однако, на наш взгляд, идеи, к которым приходят ее бунтующие протагонистки, имеют очень мало общего с концепциями женской эмансипации или гендерной инверсии, то есть освоением женщиной мужских ролей. Героинь Ган не устраивают ни мужские, ни женские роли – только «ангельские», означающие тотальный запрет на сексуальность51. Однако, отказываясь связывать себя со «взрослым», сексуальным, мужским миром, уходя в монастырь духовной невинности, героини Ган сохраняют потребность творить, писать. Вопрос о сути женского дарования и возможности женской творческой самореализации является центральной темой последнего незаконченного произведения Е. Ган «Напрасный дар»52. В этом тексте писательница разделяет творчество53 и авторство. Главная героиня повести Анюта – женщина – романтический поэт (вещунья), которая реализует свой дар и счастлива, пока живет по законам невыразимого, бессловесного поэтического откровения. Однако ее попытка выйти к публике, момент контакта с реальным миром и читателем оказывается чрезвычайно опасным или даже невозможным для женщины. Переход в сферу рационального, профессионального отношения к творчеству (в мужской мир конкуренции и борьбы) воспринимается как предательство дара. Со свойственным ей романтическим максимализмом Ган заостряет проблему до предела и делает ее видимой и значимой. В этом плане, по мысли К. Келли, «как писательница, избегающая компромиссов, она была весьма вдохновляющим автором в «абсолютистском» контексте русской культуры»54.
В отличие от Е. Ган, ее современницу Марию Жукову критика и тогда, и впоследствии считала обычной беллетристкой средней руки – без особых претензий и новаторства. И только «косой» взгляд (термин Зигрид Вайгель55) феминистской критики помог увидеть значительный инновативный потенциал ее прозы, который связан с кругом изображаемых ею героев (точнее – героинь) и особенностями повествования.
В прозе Жуковой, начиная с ее первого произведения цикла «Вечера на Карповке», получают голос те женские типы, которые в современной ей литературе оставались на периферии сюжета, были молчащими статистами или полукомическими фигурами: дурнушка, старая дева, провинциалка, приживалка, содержанка, старуха56, а главное – писательницу интересует та, кто вообще редко становился литературной героиней: обыкновенная женщина и ее судьба, в которой играют роль не только отношения с мужчинами, а, может быть, не в меньшей степени сложные, а часто и драматичные отношения с другими женщинами. Подобно Н. Дуровой, Жукова изображает конфликтные отношения матери и дочери («Наденька»), неоднозначные, одновременно любовные и конкурентные отношения между сестрами («Две сестры») и подругами («Эпизод из жизни деревенской дамы», «Две свадьбы»).
Но особенно интересны нарративные практики Жуковой. Уже в первом ее цикле «Вечера на Карповке» существует многозначное противоречие, напряжение между рассказанными историями и обрамляющим сюжетом, рамкой, что, на взгляд Джо Эндрю, позволяет говорить «о полифонии текста, проблематизирующего и ставящего под вопрос многие представления об авторстве и гендере, связанные с этими концепциями»57. Хидьде Хугенбум использует для обозначения названного напряжения термин пастиш (pastiche)58, видя в нем способ выражения женского протеста. Сюжет женской литературы – обсуждать то, как принуждают рассказывать сюжет женской жизни. Сами многочисленные отступления (которые так раздражали Белинского), как считает исследовательница, – это своего рода литературные манифестации; рыхлость и незавершенность – своего рода протест против социального порядка59. Вообще, выраженная повествованием мысль о текучести, незавершенной непредсказуемости жизни кажется Хугенбум очень важной для Жуковой. Исследовательница обращает внимание на особые функции мотивов природы и провинции у писательницы:
В жуковской эстетике сельские прогулки больше всего ассоциируются с длинным, относительно однообразным течением проживаемой жизни, и таким стандартом она поверяет повествование реалистического художественного текста. Это приходит в противоречие с сюжетом, который связывается с понятиями начала/средины/конца, это ниспровергает линеарность и замкнутость жанра светской повести60.
О проекте
О подписке
