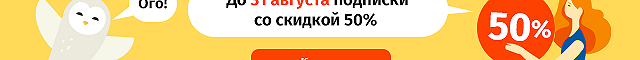
Мне ни в коем случае нельзя было открывать одну из причин своего желания сменить работу в Москве (нездоровье). Он, в свою очередь, старался представить дело так, что врачи ему не очень и нужны, хотя против меня лично он вроде бы ничего не имеет. Но я-то видел: нужны, ох, как нужны, и даже подумал, что не следовало бы мне, пожалуй, лезть в этот хомут, потому что завалят работой так, что и моя медсанчасть покажется отсюда богадельней. Но тут же будто что подхлестнуло: это мой единственный шанс. Начну перебирать да взвешивать и вообще не вырвусь из города.
Некоторые решения нужно принимать мгновенно. Я, слава богу, это понял и уже не раздумывая накатал заявление. А потом вышел из полутёмной конторы на белый свет и огляделся. Надо было всё-таки взглянуть, что же я выбрал себе на ближайшее обозримое будущее. До этого момента было как-то недосуг. Но теперь, млея под лучами почти уже весеннего февральского солнышка, я стоял как зачарованный. Ослепительный зимний день будто плавился в этих лучах. Со старых заснеженных елей, обступивших здание конторы, падали на её крышу тяжёлые капли. Видимо, недавно прошёл снегопад, и искрящаяся снежная пыльца сеялась с веток, с забора, с густо облепленных проводов, и уходящая вглубь парка аллея вся была просвечена этой пыльцой, а на скамейках лежали большие подушки подтаявшего снега. Праздный, смеющийся народ толпился у калитки, где из подъехавших «Жигулей» высаживалась весёлая подвыпившая компания.
В тот момент я ещё не знал, что с момента моего вступления в должность между их праздностью и моей озабоченностью проляжет непроходимая черта. Не знал, конечно, и того, что это первый и последний зимний день, который мне суждено видеть на звенигородской земле. И, может, от этого незнания так свободно и легко было на сердце. В конце концов, свой выбор я сделал. Впереди ожидала новая, неизвестная жизнь. И как бы там она ни сложилась, всё равно: с гнетущей беспросветностью городского существования теперь покончено.
________
Новая жизнь началась для меня с телефонного звонка. Главный врач санатория Баранов справлялся, когда же я приступлю к работе. Хотя в ящике его стола лежало моё им же завизированное заявление, где значилось чёрным по белому, что приступить я должен с 20-го марта. До срока оставалось ещё две недели, в которые я лелеял надежду устроить себе давно выстраданную передышку. Но Баранов брал на пушку и знал, что со мной этот номер может пройти. Выяснив, что я успел уже рассчитаться на прежнем месте (о чём говорить, конечно, не следовало), он сразу же начальственно повысил голос: «Поймите, у меня больные. У нас некому вести больных. Если вы завтра же не выйдите на работу, я не несу перед вами никаких обязательств».
Наверное, он был по-своему прав, этот Баранов. Хотя, с другой стороны, никуда бы он не делся и через две недели. Собственно, то был экзамен на твердость характера (уход с прежнего места работы придавал некоторую зыбкость моему положению), и этого экзамена я не выдержал.
И вот теперь, вместо запланированного отдыха, предстояли пожарные сборы. О том, чтобы ехать всем сразу, не могло быть и речи. В отведенной нам комнате из предметов мебели присутствовал пока только один – железная кровать с панцирной сеткой. И чтобы где-то разложиться, решено было прихватить с собой старую книжную полку. Длинная полка еле влезала в такси, почти не оставляя места для заднего пассажира. Так мы и ехали втроём – Зоя, я и полка, оставив на этот день Виталика на попечение деда.
Что такое советский профсоюзный санаторий, может представить себе не тот, кто там отдыхал, а кто хотя бы неделю в нём проработал. И дело тут не в служебном статусе, а в существенно ином взгляде на вещи. Драгоценное свойство советского человека входить в чужое положение, а потому мириться с плохой работой транспорта, очередями в поликлиниках, грязью в городских столовых куда-то испарялось, едва он становился обладателем заветной соцстраховской путевки, о которой хлопотал несколько лет, унижался перед профкомовскими дамами, собирал медицинские справки и т.д.
«Вот теперь уж я подлечусь – наверстаю всё, что недобирал, недосыпал, недоедал годами», – примерно так рассуждал, наверное, каждый мой второй пациент, забывая, что попадал-то он в точно такое же советское учреждение, ничуть не более благополучное, чем то, которое сам только что оставил. И тут уж бесполезно да, может, и негуманно было ему объяснять, что потолок в шестой палате течёт оттого, что уже месяц, как болеет наш рохля-завхоз (от которого и здорового-то было не больше проку). Что чуть тёплая вода в душевой напрямую связана с тем, что беспробудно пьянствуют сантехники, а антрекоты, подававшиеся сегодня в столовой, состояли из одних жил, потому что лучшее мясо обнаглевшие повара сумками таскают к себе домой, благо недалеко носить.
Ничего этого, повторяю, объяснить своим больным я не мог и лишь, отводя глаза, молча выслушивал их докучные, но, увы, справедливые наскоки. Это постоянное пребывание между молотом и наковальней не могло, конечно, не выводить из равновесия. Но особенно отравляли мне жизнь такие малозначащие, на первый взгляд, проблемы, как талончики на массаж и храп.
Впрочем, не скажите. Массаж был самой дефицитной из всех процедур, которые имелись у нас на вооружении, и в санатории ввели на него некое подобие карточной системы. К началу очередного заезда каждому врачу выдавали на эти цели ровно двадцать «массажных талонов» – двадцать на пятьдесят приходящихся на врачебную ставку больных. В первый раз я оказался нерасчётливо щедр, выписывая направление всем, кто меня об этом просил, и уже через пять дней остался с пустыми руками. Тогда я начал зажимать талоны, чтобы растянуть их на весь заезд и, главное, сохранить для тех, кто по-настоящему в них нуждался. Но моя хитрая стратегия чаще всего вела к тому, что недовольные шли с жалобой к Баранову, тот снимал в их присутствии телефонную трубку и суровым тоном внушал мне, что негоже отказывать в процедуре человеку, который специально за этим приехал в санаторий. Лукавил, конечно, наш главный, прекрасно зная истинное положение вещёй, но что мне оставалось делать?
Что же до храпа, то я только здесь обнаружил, каким бедствием для окружающих может обернуться этот вроде бы невинный человеческий недостаток. Особо злостных храпунов мы осторожно пытались выявить ещё в день приезда, чтобы поместить, или, точнее, совместить их в одной палате, поскольку жаловаться тогда им будет уже не на кого. Однако редко кто добровольно признавался в этом своем тайном пороке. Когда же человек был уже определён на место, стронуть его без собственного на то согласия было практически невозможно. И тут разгорались прямо-таки шекспировские страсти.
Целые делегации осаждали меня с ультиматумом избавить их от «зловредного» соседа. Принцип, как говорится, шёл на принцип. «Почему переселяться куда-то должны мы, если храпит он (она)?» Более покладистые уходили на ночь со своим тюфячком в холл к телевизору, хотя и это, конечно, был не выход. Но случались и настоящие трагедии. Совсем незадолго до моего появления только по этой причине умер один отдыхающий. Ночь не поспал, две, а на третью – повторный инфаркт, да такой обширный, что откачать беднягу не смогла и вызванная из Москвы бригада.
Чтобы избежать повторения подобного, некоторым врачам приходилось на время даже уступать свой кабинет, организуя приём в каком-нибудь случайном закутке. При этом все мы отлично знали, что в резерве у главного есть два так называемых номера-«люкс» с холодильником, телевизором и даже отдельной ванной, которые он бережёт для особо избранных гостей. Только редко кому из привилегированной публики приходило желание, да ещё не в сезон, осчастливить наш заштатный санаторий. И прохладно-стерильные «люксы» пустовали месяцами, а ключи от них, как и их непроницаемую тайну, Баранов свято хранил в своем служебном сейфе.
Однако выпадали в этой моей унылой рутине дни, в которые я принадлежал только себе. То были недельные паузы между заездами. Все приехавшие уже расселены, лечебные процедуры назначены и, наскоро приняв нескольких поджидавших меня с утра больных, у кого возникло непредвиденное дело к своему лечащему врачу, я к одиннадцати утра был уже совершенно свободен. Оставив свой узенький, как пенал, кабинет открытым (эффект присутствия!), я спускался по широким парадным ступеням главного корпуса, сворачивал в какую-нибудь боковую аллейку и, снимая на ходу халат, словно бы окунался в другой мир, разительно непохожий на тот, что остался за массивными санаторскими стенами.
Там слонялись по коридорам озабоченные бледные люди, торопящиеся с одной процедуры на другую и поглощённые, кажется, только одним – побольше успеть: электросеансов, ванн, уколов, словом, всего, что могло, по их мнению, дать им заряд здоровья на несколько лет вперёд. А здесь звонко пересвистывались птицы, таял последний снег, а на просохших под весенним солнцем пригорках (таково благодатное свойство песчаной звенигородской земли) можно было уже сидеть, ничего не подстилая под себя и не опасаясь схватить простуду. Иногда я спускался по крутому откосу Москвы-реки и, присев на какую-нибудь перевёрнутую лодку, смотрел, как несёт она, взбаламученная половодьем, пёстрый окрестный мусор.
Бесплатно
Читать книгу: «Звенигородский меридиан»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке
