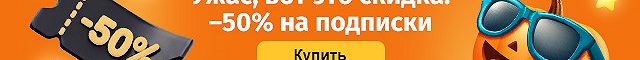
За последний месяц мы как-то сблизились. И общались так свободно. Я понял, как она мне дорога и как могу потерять ее по своей беспечности. Я уже должен был что-то ей сказать. А не принимать как должное. Между нами могло встать любое происшествие, любой человек, какой-нибудь соученик. Ее лицо, ее голос, все ее поведение – и сдержанное, и прямодушное – так отчетливо увиделись мне. И то, как она брала меня за руку, когда бывала растерянна или чем-то увлечена. Да, мы стали очень близки, и я не успел заметить, как это случилось. Я был идиотом. Я должен был ей признаться.
Я вернулся в свой кабинет, служивший мне также спальней. Между кроватью и столом оставалось достаточно места, чтобы прохаживаться взад-вперед. Теперь мысль о том, что Миранда ничего не знает о моих чувствах, наполняла меня тревогой. Меня охватывало смущение, когда я пытался представить, как скажу ей об этом, я боялся ее возможной реакции. Она была моей соседкой, другом, почти что сестрой. Но я даже толком не знал ее. И когда я скажу ей об этом, ей придется как бы выйти на свет, снять маску и говорить со мной такими словами, каких я от нее никогда еще не слышал. Мне так жаль… Ты мне очень нравишься, но, видишь ли… Или это может ужаснуть ее. Но что, если она будет несказанно счастлива, услышав то, о чем сама мечтала, но так же боялась услышать отказ.
Так совпало, что в тот момент мы оба были свободны. Должно быть, она уже думала об этом, думала о нас. Это была не такая уж невозможная фантазия. Мне придется сказать ей об этом прямо, лицом к лицу. Невыносимо. Неизбежно. И так я ходил по кругу, уговаривая себя все сильнее. Не находя покоя, я опять вышел за дверь. Пересек кухню к холодильнику и вынул полбутылки белого бордо. Адам все так же сидел на месте. Я сел напротив него и поднял бокал. За любовь. Теперь он не вызывал у меня прежней теплоты. Я увидел Адама именно тем, чем он был, – синтетическим парнем, чей пульс объяснялся устойчивыми электроразрядами, а кожа была теплой просто из-за химии. Когда он зарядится, какой-то микроскопический маховик даст ему сигнал открыть глаза. Он как будто увидит меня, хотя на самом деле будет слеп. Точнее, незряч. Когда он активируется, другая система обеспечит ему видимость дыхания, но не сделает его живым. Человек, переживающий новую влюбленность, знает, что значит быть живым.
Если бы я не потратил наследство на Адама, я мог бы купить жилье на северной стороне реки, где-нибудь в районе Ноттинг-Хилла или Челси. Миранда могла бы даже жить со мной. У меня хватило бы места для всех ее книг, сложенных в коробках в гараже ее отца в Солсбери. Я увидел будущее без Адама, будущее, которое было моим до вчерашнего дня: городской дом с садом, высокие потолки с лепниной, кухня из нержавейки, старые друзья заходят на обед. И повсюду книги. Что же делать? Я мог взять его – эту электронную куклу – и вернуть в магазин или продать на интерактивном рынке с небольшой уценкой. Я смерил Адама враждебным взглядом. Его руки лежали ладонями вниз на столе, ястребиное лицо было по-прежнему наклонено. Мое ребяческое увлечение железками! Еще один набор для фондю. Я заставил себя отойти от стола, пока с досады не уничтожил свой капитал ударом старого отцовского гвоздодера.
Я выпил примерно полбокала и вернулся в спальню, намереваясь погрузиться в валютные рынки Азии. Но все время пытался услышать шаги в квартире сверху. Поздним вечером я включил телик, посмотреть на Тактическую группу, которую вскоре перебросят за тринадцать тысяч километров над океаном, чтобы вернуть Британии острова, известные в прошлом как Фолклендские.
* * *
Мне было тридцать два года, и у меня в кармане не было ни гроша. То, что я потратил материнское наследство на свою причуду, стало только частью моей проблемы, однако весьма показательной. Всякий раз, как у меня заводились деньги, я делал так, что они тут же исчезали, – сжигал на волшебном костре, засовывал в цилиндр и вынимал индейку. Часто, хотя и не в этом случае, я пытался заполучить гораздо большие деньги малыми усилиями. Но в денежных махинациях, в любых полулегальных схемах и хитрых комбинациях для быстрого обогащения я был простофилей. Мне удавались только широкие и красивые жесты, тогда как другие действовали с умом и процветали. Они брали кредиты, вкладывали их под проценты и оставались в плюсе даже после уплаты долгов. Или у них были должности, профессии, как когда-то у меня, и они богатели более скромными, но устойчивыми темпами. Я же тем временем разбазаривал добро, повергая себя в благородные руины, а точнее, в двухкомнатную сырую квартирку на первом этаже, в глухом углу южного Лондона, между Стокуэллом и Клэпемом, с узкими улочками, не менявшимися с начала века.
Я вырос в сельской местности неподалеку от Стратфорда, в Уорикшире, и был единственным ребенком в семье музыканта и участковой медсестры. Если сравнивать меня с Мирандой, можно сказать, что в детстве я культурно голодал. У меня не было ни времени, ни места для книг или хотя бы для музыки. Поначалу я увлекся электроникой, но в итоге получил степень по антропологии во второразрядном колледже в Южном Мидлендсе; потом перевелся на курс переподготовки по юриспруденции и, сдав вступительный экзамен, выбрал специализацию в налогообложении. Через неделю после двадцать девятого дня рождения я был лишен права практики и чуть не попал за решетку. Сто часов общественных работ внушили мне стойкое отвращение к любой постоянной работе. Я получил немного денег за книгу про искусственный интеллект, которую написал наскоком, – и погорел на схеме с чудо-таблетками. Выручил неплохую сумму за сделку с имуществом – и погорел на схеме с арендой автотранспорта. Мне перепало немного ценных бумаг от любимого дяди, разбогатевшего на патенте теплового насоса, – и я погорел на схеме с медицинской страховкой.
В свои тридцать два я выживал игрой на интерактивной фондовой бирже. Очередная схема. По семь часов в день я сидел, склонившись над клавиатурой, покупая, продавая, сомневаясь, хватая воздух и ругаясь, по крайней мере, поначалу. Я читал рыночные сводки, но считал, что имею дело с произвольной системой, и полагался в основном на чутье. Бывало, вырывался вперед, бывало, плелся в хвосте, но в среднем по итогам года заработал не больше, чем почтальон. Я оплачивал жилье, в те времена дешевое, неплохо питался и одевался и считал, что моя жизнь понемногу обретает стабильность и я учусь быть в ладу с собой. Я убедил себя, что с тридцати до сорока я переплюну предыдущее десятилетие по всем показателям.
Но так совпало, что одновременно с поступлением в продажу первого реалистичного искусственного человека был продан дом моих родителей. 1982[7] год. Роботы, андроиды, репликанты были моей давней страстью, которая в процессе моей работы над книгой только выросла. Цены должны были вскоре снизиться, но я хотел своего робота прямо сейчас – по возможности, Еву, но сойдет и Адам.
Все могло бы повернуться по-другому. Моя бывшая подруга, Клэр, обладала чуткой душой и училась на помощницу стоматолога. Она проходила практику на Харли-стрит и наверняка сумела бы отговорить меня от покупки Адама. Она была женщиной, умудренной в делах мира, этого мира. Она знала, как навести порядок в жизни. И не только в своей. Но я нанес ей оскорбление действием, не оставлявшим сомнений в моей неверности. И она отвергла меня, устроив сцену монаршей ярости, под конец выбросив мои шмотки из окна на улицу Лайм-Гроув[8]. С тех пор она оборвала со мной все контакты, а я занес ее на первое место в список своих ошибок и неудач. А ведь она могла бы спасти меня от меня.
Но. Справедливости ради дадим слово этому неспасенному мне. Я купил Адама не с целью наживы. Мои помыслы были чисты. Я отдал за него состояние во имя любознательности, этого извечного двигателя науки, интеллектуальной жизни и жизни вообще. Это не было мимолетной причудой. У этого были история, учетная запись, срочный вклад – и я имел на него право. Электроника и антропология – дальние родственники, которых свел вместе и повенчал покойный модернизм. Отпрыском этого союза стал Адам.
И вот я перед вами, свидетель защиты, после школы, в пять часов вечера, типичный представитель своего времени одиннадцати лет – короткие штанишки, разбитые коленки, веснушки, стрижка с челкой. Я стою первый в очереди перед дверью лаборатории, ожидая открытия «Монтажного клуба». Председательствует мистер Кокс, добрый рыжеволосый великан, учитель физики. Мой учебный проект – собрать радио. Это акт веры, долгая молитва, растянувшаяся на много недель. У меня имеется основа из оргалита, шесть на девять дюймов, которую легко сверлить. Цвета предельно важны. По основе аккуратно проложены синий, красный, желтый и белый проводки, поворачивая под прямыми углами, исчезая и снова появляясь в других местах, перемежаемые яркими узлами, а также крохотные полосатые цилиндры – конденсаторы и резисторы, индукционная катушка, которую я сам намотал, и операционный усилитель. Я ничего в этом не понимаю. Я следую за чертежом монтажа как неофит, бормочущий Священное Писание. Мистер Кокс дает советы мягким голосом. Я неловко припаиваю одну часть – проводок или деталь – к другой. Дым и запах припоя для меня как наркотик, и я глубоко его вдыхаю. Я вставляю в устройство бакелитовый переключатель, который, как я убедил себя, когда-то стоял на истребителе, несомненно «Спитфайре»[9]. Конечное соединение, установленное через три месяца после начала работы, было сделано из того же темно-коричневого пластика и подсоединялось к девятивольтовой батарейке.
За окном – холодные мартовские сумерки. Другие мальчишки тоже склонились над своими проектами. Мы в двенадцати милях от родного города Шекспира, в общеобразовательной школе, типичном образце «учебного болота». Отличное место на самом деле. Включаются флуоресцентные потолочные лампы. Мистер Кокс в дальнем конце лаборатории, спиной к нам. Мне не хочется привлекать его внимание на случай, если я сплоховал. Я нажимаю на переключатель и – о чудо – слышу помехи статики. Покачиваю подвижный настроечный конденсатор – и звучит музыка, на мой вкус, жуткая, ибо скрипочки. Затем прорезается женский голос, говорящий не по-английски.
Никто не смотрит в мою сторону, никому не интересно. Сборка радио – сущая ерунда. Но у меня перехватывает дыхание, и в глазах стоят слезы. Никакая техника за всю последующую жизнь не изумит меня сильнее. Электричество, проходя через кусочки металла, тщательно собранные мной, выхватывало из воздуха голос иностранной тетки, находившейся где-то в далекой дали. Ее голос звучал так волнующе. Она не знала о моем существовании. Я никогда не узнаю ее имени и не пойму ее языка, и мы никогда не встретимся, во всяком случае намеренно. Мое радио, с неказистыми припоями на куске оргалита, представлялось мне не меньшим чудом, чем сознание, возникающее из материи.
Мозг и электричество тесно связаны – я обнаружил это в подростковые годы, когда собирал простые компьютеры и сам их программировал. Затем я стал собирать компьютеры посложнее. Электричество и кусочки металла могли вызывать к жизни цифры, слова, картинки, песни, запоминать информацию и даже переводить живую речь в текст.
Когда мне было семнадцать, Питер Кокс убедил меня взяться за изучение физики в местном колледже. Но уже через месяц я заскучал и стал думать о смене курса. Эта наука была слишком абстрактна, а математика находилась за гранью моего понимания. Кроме того, к тому времени я уже прочитал несколько книг и проникся интересом к воображаемым личностям. «Уловка-18» Хеллера, «Неистовый любовник» Фицджеральда, «Последний человек в Европе» Оруэлла, «Все хорошо, что хорошо кончается» Толстого – дальше этого я не продвинулся, но сумел уловить задачу искусства. Это было своего рода расследование. Но мне не хотелось изучать литературу – пугающе многоликую и неподвластную логике. Тогда же в библиотеке колледжа мне попался одностраничный проспект курса антропологии, определяемой как «наука о людях в их связи с обществом через пространство и время». Систематическое исследование с человеческим лицом. Я записался.
Первое, что я усвоил: мой курс финансировался до обидного слабо. Никаких полевых исследований на Тробрианских островах, где, как я читал, существовало табу на поедание пищи в присутствии других. Это считалось культурным – есть одному, повернувшись спиной к друзьям и родственникам. Островитяне знали заклинания, чтобы сделать уродливых людей красивыми. Детей активно поощряли к ранней половой жизни друг с другом. Ходовой валютой был ямс. Женщины определяли статус мужчин. Как странно и бодряще. Мои взгляды на человеческую природу были сформированы по большей части белым населением, кучковавшимся в южной части Англии. Теперь же я вырвался на просторы бескрайнего релятивизма.
В восемнадцать лет я написал премудрое эссе о понимании чести в различных культурах, озаглавленное «Кандалы помутненного разума». Я беспристрастно разбирал всевозможные примеры общественных нравов. Что я знал и что меня волновало? Встречались общества, где изнасилование считалось настолько обыденным, что даже не имело особого названия. Молодому отцу перерезали горло за то, что он не оправдал доверия в поддержании древней вражды. В одной семье были готовы убить дочь за то, что видели ее держащейся за руку с парнем из недолжной религиозной общины. А в другом месте пожилые женщины охотно участвовали в обрезании половых губ своим внучкам. Где же были инстинктивные родительские побуждения любить и защищать? Культурный сигнал сильнее. Где же были всеобщие ценности? Перевернуты с ног на голову. Ничего похожего на Стратфорд-на-Эйвоне. Причины заключались в разуме, в традиции, в религии – другими словами, в программном обеспечении, как я определил это для себя, стараясь избегать оценочных суждений.
Антропологи не выносили суждений. Они наблюдали за реальностью и сообщали о разнообразии человеческих культур. Они восторгались различиями. То, что было безнравственным в провинциальном Уорикшире, считалось в порядке вещей в Папуа – Новой Гвинее. Если смотреть на все с локальной точки зрения, кто мог судить, что хорошо, а что плохо? Уж конечно, не колониальная власть. Я вывел из своих исследований ряд досадных заключений об этике, и несколько лет спустя это привело меня на скамью подсудимых в суде графства по обвинению в подстрекательстве к мошенничеству в крупных масштабах против налоговых органов. Я не стал пытаться убедить его честь, что вдали от его суда имеется кокосовый пляж, где подобное подстрекательство только приветствовалось. Напротив, перед дачей показаний ко мне вернулся здравый смысл. Моральные заповеди были реальны, они были истинны, добро и зло были заложены в самой природе вещей. И наши действия следует оценивать на этом основании. Так я полагал до того, как познакомился с антропологией. Запинаясь, я униженно принес залу суда извинения и тем самым избежал грозившего мне приговора к лишению свободы.
* * *
Когда я утром позже обычного вошел на кухню, глаза Адама были открыты. Бледно-голубые, испещренные вертикальными черными крапинками. Ресницы были длинными и густыми, как у ребенка. Но механизм моргания еще не активировался. Он был настроен на неравные интервалы, привязан к мимике и жестам и реагировал на действия и речь других. Я все же прочитал за ночь руководство. Андроид был оснащен моргательным рефлексом для защиты глаз от летящих объектов. В настоящий момент его взгляд не выражал ни мысли, ни намерения и был таким же пустым и холодным, как взгляд манекена в витрине магазина. Голову он по-прежнему держал неподвижно, сводя на нет ее внешнее правдоподобие. Все его тело ничего не выражало. Я попробовал нащупать пульс в запястье, но безрезультатно – сердцебиение без пульса. Его рука поднималась с трудом, неподатливая в локтевом сгибе, словно скованном трупным окоченением.
Я оставил Адама в покое и стал варить кофе. Мои мысли были заняты Мирандой. Все изменилось. Ничего не изменилось. В течение почти бессонной ночи я вспомнил, что она должна была навестить отца. Наверняка поехала в Солсбери сразу после семинара. Я мысленно увидел ее в поезде от станции Ватерлоо: сидит с нечитанной книгой на коленях, глядит на проносящийся мимо ландшафт, на волны телефонных линий и не думает обо мне. Или думает только обо мне. А может, вспоминает мальчишку с семинара, пытавшегося переглядеть ее.
О проекте
О подписке
Другие проекты
