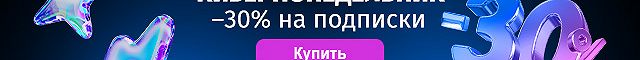
Ухажеров было мало, замуж не звали. Нет, почему же мало? Были, конечно. И счастье женское ей дарили – как и сколько могли. Она жадно пила это счастье до капли. Но не беременела (какое ужасное слово!). Ее лоно было бездонным сосудом, принимавшим все, что в него попадало, но ничего не могущим дать этому миру. Милиционер Федорчук, обаятельный крепыш – смуглый, кудрявый, черноглазый и – бесповоротно женатый; счетовод Зельдович, рано полысевший и поседевший, любивший спать, уткнувшись ей в грудь; студент-химик со смешной фамилией Обида и следами вечной ипохондрии на лице… Все они проплывали через ее железную кровать с блестящими шариками в изголовье и через ее жизнь, не оставляя следа. И это ничуть ее не заботило.
Как вдруг – Иван. Ваня.
Каким шальным ветром занесло этого высокого, плечистого, с надменным взглядом и строгой выправкой красавца в ее пыльную, надежно защищенную пишущей машинкой жизнь? Илона схватилась за него – цепко, во всю силу бледных, изможденных в постоянных боях с клавишами пальцев. В синематографе хохотала, высоко закидывая голову; пламенея от стыда, надевала на вечернюю прогулку мамину шифоновую блузку, прозрачную в ярком свете; ночами старалась быть страстной и неутомимой; пришила две пуговицы к его гимнастерке и даже освоила бабушкин рецепт приготовления воскресных оладушков.
В пылу недавней ссоры он бросил ей в лицо какие-то малопонятные слова про любовь к детям – как по щеке хлестнул. Неужели этот строгий военный с холодными серыми глазами хочет семейного уюта, хочет детей?
Мамин фотоснимок на комоде смотрел неумолимо: не сдавайся! Илона разыскала заброшенный в пыльную бездну антресолей блокнот, дрожащим от волнения пальцем нашла в складках пожелтевших страниц заветный адрес и отправилась к “проф. мед. по жен.”. Ваня хочет детей – она их ему родит. Если сможет, конечно.
Светило могло за прошедшие годы закрыть практику, сменить адрес, да и просто – состариться и умереть. Но – какое огромное, невероятное счастье! – по-прежнему жило здесь, охраняемое цепным псом – гороподобной женщиной со взглядом голодной медведицы.
И вот робко потупившаяся Илона уже стоит посреди комнаты, а чудаковатый профессор спешит ей навстречу – полы стеганого атласного халата развеваются, лохматые кудри полукругом – подумалось: нимбом! – вокруг высокого блестящего лба, переходящего в такой же гладкий затылок. Припадает губами к ее мгновенно и густо краснеющей от смущения руке (пальцы Илоне еще никто и никогда не целовал, даже любвеобильный милиционер Федорчук, да еще так запросто, при посторонних).
– Спасибо, Груня, – нараспев говорит профессор.
Женщина-медведица разочарованно выпускает воздух из объемной груди, медленно разворачивается и выносит свое грузное тело из комнаты.
Профессор любезно указует сухонькой ладошкой на стул с гнутыми деревянными ножками и лакированными подлокотниками, напоминающими эклеры из кондитерской Горзина. Илона, все еще не смея поднять утяжеленные черной тушью ресницы, приседает на краешек обитого цветочным атласом сиденья. Что-то маленькое, острое вонзается в основание ноги: гвоздь? Она решает не подавать виду и терпеть.
– Простите мне мой затрапезный вид, – журчит голос Лейбе. – Обычно я принимаю после обеда. Но раз уж вы пришли – чему я рад, искренне рад! – побеседуем сейчас о вашем… м-м-м… вопросе.
Стыдно, Боже, как стыдно… Илона сглатывает комок слюны и поднимает глаза. Светило уютно устраивается за большим письменным столом, кладет руки на светло-серый бархат столешницы:
– Слушаю вас самым внимательным образом.
Нежно-голубые глаза профессора ласковы. Из-под распахнувшегося халата на груди видна впадина, от которой солнечными лучами расходятся в стороны тонкие ребра. Илона опускает взгляд. Светилу позволено многое, даже иметь странности и принимать пациентов в таком экстравагантном виде.
– М-м-м? – подбадривает Лейбе.
– Мне нужно завести ребенка, – выдыхает она. – Во что бы то ни стало.
Профессор берет со стоящего на столе подноса серебряную ложку и задумчиво постукивает по чашке – по изящной кофейной чашечке молочно-белого фарфора, тонкой, с плавно изогнутыми боками и кокетливой ручкой. Звон получается неожиданно глухой и дешевый: ляц-ляц… ляц-ляц…
– Как давно вы этого хотите?
– Хочу не так давно… Но могла бы уже давно… То есть чисто теоретически… Впрочем, и практически тоже… – окончательно запутывается Илона и упирается подбородком в наглаженные рюши на груди. – Семь лет.
– Итак, на протяжении семи лет вы состоите в отношениях с мужчинами, но ни одного раза не были беременны. Это вы хотели сказать?
Илона глубже всаживает голову в плечи: да, именно это. Гвоздь в обивке стула колет ногу сильно, настойчиво. Ерзать Илона боится – вдруг порвется платье?
– Что ж, необходимо осмотреть вас для начала, заполнить медицинский опросник. После этого станет понятно, смогу ли я помочь. Или хотя бы попытаться помочь.
– Я готова к осмотру, – шепчет Илона рюшам на груди.
– Милая моя, но я не готов! – смеется профессор. – Где прикажете вас принять – на этом столе?! Да, я веду практику на дому, но сейчас в моей квартире идет ремонт. Ужасный, нескончаемый ремонт! Столовая, гостиная, спальня, библиотека, смотровая, приемная – все заняли эти несносные рабочие, которые целыми днями беспрестанно шумят. Они мешают мне думать, работать, жить, в конце концов! Только и остается – выкрадывать спокойные часы по ночам, когда они прекращают свою бесконечную возню. В собственном доме – я вынужден работать по ночам, при свете лампы. Как мышь! – он кивает на лежащий перед ним лист бумаги. – К счастью, этот кошмар скоро закончится. Груня обещала, что ждать осталось совсем недолго.
– Груня? – Илона никак не может сообразить, что происходит: светило отказывается помочь?
Гвоздь впился в тело до невозможности глубоко – ее словно насадили на шампур.
– Груня все знает, – профессор берет со стола чашку, подносит ко рту и в предвкушении чмокает губами. – Мой ангел-хранитель, без нее бы я – пропал. Выясните у нее, когда этот бедлам закончится, – через неделю, через месяц, – и приходите.
Вконец измученная стыдом и непониманием Илона поднимает взгляд.
– Я не могу ждать, профессор.
– Тогда… – он растерянно помахивает чашкой в воздухе, – …приходите ко мне в клинику. Я принимаю там по четвергам… или по пятницам… Уточните у Груни.
Илона вскакивает со стула (а вернее, с гвоздя) и бросается на колени перед профессорским столом.
– Не отказывайте, профессор! Помогите! Вы – моя последняя надежда!
– Нет-нет! – кричит вдруг Лейбе неожиданно тонким голосом. – Я ничего не знаю! Груня знает! Идите к Груне!
– Только вы можете спасти! Вы же гений! Светило!
Илона на коленях подползает к столу, роняет заломленные руки на столешницу. Светло-серый вихрь поднимается из-под ее рук – становится видно, что под слоем пыли обивка стола имеет насыщенный зеленый цвет. Пыль покрывает все: столешницу, письменные приборы, открытую чернильницу с засохшим озерцом чернил в глубине, девственно-белый лист бумаги и лежащее на нем перо с обломанным концом.
Испуганно отпрянувший профессор выставил перед собой кофейную чашку, словно защищаясь. Чашка – с широкой трещиной и абсолютно пуста.
– Простите, ради бога, – Илона медленно отползает на коленях обратно.
Солнце бьет сквозь грязные разводы на трехстворчатом окне, и пушисто-кудрявый нимб вокруг лысины профессора наливается ярким золотом. Он ставит чашку на поднос, восстанавливает учащенное дыхание. Затем выбирается из-за стола и, все еще настороженно поглядывая на Илону, берет в руки большую жестяную лейку. Струи воды льются из дырчатого жерла в большую деревянную кадку, из которой торчит сухая, ощетинившаяся обломками высохших ветвей корявая палка – скелет давно умершего дерева.
– Простите меня, ради бога, простите, – шепчет Илона, поднимаясь с колен и отряхивая платье. – Простите, простите…
– Хороша? – профессор смущенно улыбается и ведет пальцем с длинным обломанным ногтем по морщинистому стволу. Откидывается назад, любуясь. Распахнутыми ладонями оглаживает несуществующие листья.
– Всего доброго, – Илона пятится к двери.
– Жду вас в клинике, – Лейбе прощально кивает, не отрывая взгляда от пальмы.
Дверь открывается на секунду раньше, чем Илона ее толкает. В проеме – гигантское тело Груни, подает пальто и шляпу. Подслушивала, понимает Илона.
– Правда ли профессор Лейбе принимает в клинике по четвергам? – спрашивает она в темноте коридора.
– Вольф Карлович не выходит из своей комнаты вот уже десять лет, – отвечает Груня.
Гений.
Вольф Карлович мотает головой. Каждый раз ему неловко выслушивать подобные восторженные эпитеты от пациентов и студентов.
Светило.
Какое там!.. Маленький мальчик, стоящий на берегу океана, – вот кем он себя ощущает в науке. И не стыдится признаться в этом с кафедры, глядя в широко распахнутые глаза учеников.
Только вы можете спасти.
Увы, и это неправда. Организм пациента спасает себя сам. А врач только помогает, направляет его силы в нужное русло, иногда убирает лишнее, ненужное, отжившее. Путь к выздоровлению врач и больной проходят рука об руку, но главная партия, решающий ход всегда – за пациентом, за его волей к жизни, за силами его организма. Студенты старших курсов, уже приобщившиеся к тайнам фармацевтики и имеющие за плечами пару элементарных хирургических операций, иногда решаются спорить с ним об этом. Милые оперившиеся птенцы…
А не пора ли в университет? Визит экзальтированной девицы выбил его из привычной жизненной колеи, и Вольф Карлович растерялся, запутался. Во сколько у него сегодня первая лекция? Зависит от того, какой сегодня день недели.
А какой, собственно, день?
Лейбе смотрит на часы – стрелки неподвижно застыли на циферблате.
Он берет со спинки стула профессорский мундир – и понимает, что это старый отцовский халат. А где же мундир? Тот самый – плотного сукна, глубокого синего цвета, с форменными пуговицами – на каждой расправил крылья строгий двуглавый орел? Тот самый, где на груди сияет белоснежной эмалью узкий ромб – значок профессора Казанского университета? Тот самый, с которого Груня каждое утро сдувает пылинки? Верно, она и унесла его чистить.
Вольф Карлович делает шаг к двери. Гладкая ручка податливо ныряет в ладонь. Он долго теребит ее – словно дружески пожимает двери латунную руку – потом резко тянет вниз и шагает в открывшуюся черную бездну коридора…
Груня истово трет мыльной тряпкой закопченный бок кастрюли, и белая пена пузырится на жирной керосиновой саже, чернеет. С появлением Степана в ней проснулось желание оттирать посуду до нестерпимой, зеркальной чистоты, и профессорские тазы и сковороды засверкали в ее мощных руках невиданным доселе, глаза режущим блеском.
Спиной ощущает уткнувшиеся ей промеж лопаток недружелюбные взгляды соседок. Пусть смотрят, стервы. Не любят ее в коммуналке крепко – за то, что ведет себя в квартире как хозяйка. А кто же она? Хозяйка и есть. Здесь каждая стена, каждая половая доска, каждый плинтус, каждая загогулина на резных белых дверях знает ее руки – все ими сотни раз подметено, вычищено, отмыто и натерто.
Когда в тысяча девятьсот двадцать первом в профессорскую квартиру стали подселять жильцов, она держала оборону крепко: тщательно отобрала самые ценные вещи и перетащила в свою комнату (обеденные и чайные сервизы, столовое серебро, тяжелые подсвечники, бархатные портьеры – им, что ли, оставлять, полуграмотной деревенщине?!); заняла на кухне лучший стол, а в коридоре – самый большой шкаф, да еще и антресоли в придачу; темным осенним вечером отнесла управдому огромный, как подушка, увесистый, как камень, тускло сверкающий серебром чернильный прибор с именной надписью “Профессору медицинских наук В.К. Лейбе с глубочайшим уважением от ректора Казанского Императорского университета Г.Ф. Дормидонтова” – не пожалела (с управдомами нужно дружить, дураку ясно).
И стала ждать.
Профессору, к тому времени уже надломленному произошедшими в стране переменами, сильно досталось в войне с белочехами, он впал в немилость у новых университетских ректоров (а их в первые годы Гражданской сменилось немало), практику в клинике прикрыли… И однажды утром Вольф Карлович не вышел из комнаты. Его никто не хватился. Одна только Груня, принеся ему на завтрак чашку травяной бурды, которую профессор приноровился пить по утрам вместо привычного кофе, посмотрела в его радостные, не замутненные более земными печалями голубые глаза и тихо охнула. Сначала испугалась. Потом поняла: вот оно, дождалась. Быть ей в квартире хозяйкой.
Она терпела жильцов стойко, как клопов. Просто не знала, чем травить. Степан, возникший в ее жизни пару месяцев назад, – знал. Начать решил с самого легкого – с профессора.
Груня сомневалась недолго. Ухаживать за полубезумным бывшим хозяином ей уже до смерти надоело.
А быть для Степана грушенькой, яблонькой, смородинкой, изредка (прости, Господи! грешна, каюсь…) даже черешенкой, хотелось – тоже до смерти.
И вот уже – письмо написано и опущено в почтовый ящик (Груня тогда вспотела щедро, по-лошадиному, выводя под Степанову диктовку длинные и заковыристые слова, значения которых не понимала: буржуазный – через у или о? германский – через е или и? шпион – через о или е? контрреволюция – с одним или двумя р? слитно или раздельно?..). Если Степан прав – скоро они придут, чтобы освободить профессорский кабинет с трельяжем чудных окон, смотрящих на старинный парк, с пахнущими воском полами и тяжелой ореховой мебелью. Освободить для Груни, ждущей своей очереди на счастье уже долгие десять лет. А потом – как там Степан утром сказал? – не век же им в двух комнатах ютиться…
Груня ополаскивает кастрюлю в тазу. На кухне вдруг становится очень тихо. Соседки в ее присутствии обычно не разговаривают, лишь переглядываются. Но сейчас тишина за Груниной спиной – тягучая, непривычно тяжелая. Истошно, будто захлебываясь, булькает чей-то суп.
Груня оборачивается.
На коммунальной кухне стоит профессор Лейбе.
Соседская девчонка, все время путавшаяся под ногами на своем хромом трехколесном велосипеде, испуганно тренькает в звонок – дзынь! – и спрашивает в тишине: “Мама, это кто?”
Женщины застыли, кто – с поварешкой, кто – с утюгом, кто – с тряпкой в руках. Смотрят на Лейбе во все глаза. А он смотрит только на Груню.
– Где мой профессорский мундир? – спрашивает высоким от волнения голосом.
Ее рука сжимает тряпку, и мыльная пена сочится меж пальцев, звонко капает в таз.
– Где мой профессорский мундир? Груня, я вас спрашиваю.
– Давайте поищем в комнате, профессор, – говорит она внезапно севшим голосом. – Пройдемте в комнату.
– Я там уже искал, – упрямится Лейбе. – Немедленно подайте мне мундир. Я опаздываю.
Соседки ощупывают огромными от любопытства глазами тщедушную фигурку профессора, переводят взгляды на Груню, затем обратно.
Неужели так бывает – десять лет не помнил, и вот… Именно сейчас, когда со дня на день должны прийти они… Не пить Груне кофе из профессорских чашек, ой не пить… И нужна ли она будет Степану такая – с одной малюсенькой комнатенкой в коммунальном муравейнике… Толстые Грунины пальцы, покрытые белой, лопающейся на воздухе пеной, холодеют.
– Так вы дадите мне мундир?!
Под прицелами внимательных соседских глаз она залезает на табурет и тянет с антресолей огромный фанерный чемодан. Роется в нем и достает со дна измятый, местами кружевной от моли и белый от пыли мундир.
О проекте
О подписке
Другие проекты



