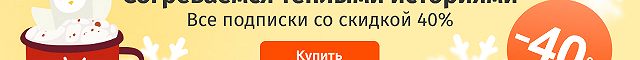
Познать всего этого двадцатилетнему Рорику не пришлось: как только юношей начали призывать на Гражданскую, его (не без деятельного участия Мама́) зачислили во Второй инженерный батальон и отправили номинально на Северо-Западный фронт, а фактически как можно дальше от военных действий. Вожега, Вологда, Великие Луки, Двинск… Чем занимался батальон? Взрывал бывшие немецкие фортификации времён Первой мировой и строил свои – «на случай возможного наступления». Чем занимался юный Эйзен? Читал о театре – античном, немецком, комедии дель арте и русском балагане – и мечтал о том же. Служба была тихая, непыльная: времени хватало и на книги, и на мечты. Из всех революций на тот момент более всего волновала опубликованная недавно «Революция театра» Георга Фукса.
Смерть, которую он увидел «на фронте», и та напоминала искусную декорацию: кости немецких солдат устилали поросшие травой окопы – лежали безмолвные, в тишине пустых полей, ожидая взгляда живых. Другой смерти техник-строитель Э. во время Гражданской не наблюдал.
Где-то в Петрограде люди пухли от голода и умирали. Сам Питер стремительно пустел – две трети жителей бежали за первые революционные годы, дворовых собак и кошек поели. Улицы населили мешочники и мелкобандитская шушера, нищие и стайки беспризорников. Заводской люд бастовал, требуя хлеба и тёплой одежды с обувью (старая поизносилась, а новой никто не шил), – заводы осаждала армия, расстреливала зачинщиков и принуждала к работе… Но это было где-то там, в далёкой столице. А в армии – кормили постоянно, хоть и скудно: в письмах к Мама́ Рорик прилежно докладывал о своём рационе, где были и яйца, и даже молоко в количестве литра или полутора в день.
Рисовал по-прежнему много. Карандаш его стал острее и злее: шаржи сыпались из-под руки, как осенние листья на ветру, – то скабрёзные, то ехидные донельзя. Сослуживцы привыкли, что во время беседы Эйзен то и дело тянулся к блокноту и черкал в нём, почти не глядя, а после совал одному из собеседников изрисованный листок – по-прежнему продолжая разговаривать. Тот глядел на подарок – и (тут уж как повезёт) либо разражался смехом, либо цепенел оскорблённо. Двое получивших дары обиделись насмерть и прервали общение с насмешником. Один порывался вызвать на дуэль.
Военная жизнь длилась два года. Вдали от строгого взгляда Папа́ (тот вскоре после семнадцатого эмигрировал в Германию) и медовой улыбки Мама́ (эта осталась в России) два года сделали своё дело: юный Эйзен решил отклониться от курса, намеченного твёрдой родительской рукой. Убегал обходными тропами, петляя и путая следы: через армейский театральный кружок – до политотдела, художником-оформителем; из Минска, куда перевели политуправление, – до Москвы, изучать (внезапно) японистику в Академии Генштаба; а уже с Воздвиженки, где располагалась Академия, – на Каретный Ряд, в Первый рабочий театр.
В Берлине, где-то на просторах бесконечно далёкой Европы, за двумя границами и за пределами красного мира, пребывал ничего не знающий о сыновьих кульбитах отец. В Петрограде оставалась всё знающая, но ничего не понимающая мать. Очень далеко от обоих, в новом сердце молодых Советов городе Москве жил теперь он, Сергей Эйзенштейн – никак не архитектор, что предполагалось пару лет назад, а театральный служащий: декоратор и бутафор. Вскоре отец умер, так ничего и не узнав. А Рорик нырнул в мечту детства и юности – viva theatrum! – как в океан.
Никогда бы пай-мальчику не перешагнуть через отцовскую волю и не сбросить опеку матери, если б не тысяча девятьсот семнадцатый. Никогда бы не выломиться из устоев общества, меняя статус и репутацию на богемную мишуру. Но – свершилось: и перешагнул, и сбросил, и выломился. И потому имел полное право называть себя сыном – не выносившей его женщины, а родившей его революции. И потому имел полное право её воспевать. Так уговаривал себя. Он умел себя уговаривать.
На первую съёмку Тиссэ явился в белом полотняном костюме и кремовом кепи, что крайне элегантно сидело на аккуратной стрижке. Впрочем, он всегда выглядел так, словно только что вышел из модного магазина, а перед этим забегал в парикмахерскую. Вместе с ним приехал в такси немаленький багаж: киноаппарат Éclair, набор оптики в нескольких лакированных ящиках, штативы.
Для высадки пассажира таксист постарался выбрать место почище, но после ночного дождя на заводской площади сухих пятачков попросту не было – одна гигантская лужа с топкими берегами. Взметнув оборудование на плечи и не удостаивая грязь под ногами даже взглядом, Тис высадился на жирную коломенскую землю (а съёмки предполагались именно здесь, в Коломне, на территории и вокруг машиностроительного завода) и поступью победителя направился к съёмочной группе. Толпившиеся у проходной пролеткультовские актёры, Михин, Эйзен, уличные мальчишки, плавающие в луже гуси – все заворожённо следили, как месят жижу операторские «оксфорды» цвета беж.
Это была манера Тиса и в чём-то жизненное кредо: каждое утро начинать в безупречном виде, чтобы днём без сожаления швырнуть этот безупречный вид в грязь, пыль, воду, снег, коровий навоз или машинное масло – в зависимости от времени года и места съёмок – ради удачного кадра или рискованного эксперимента с ракурсом. Причём и пыль, и навоз, и машинное масло Тис носил на своих импортных костюмах с таким достоинством, что это его только украшало и даже придавало шика.
– Лужа отличная, – сказал, здороваясь. – Надо её непременно заснять.
Ах, как много нужно было за пару недель заснять! В начале июля театр Пролеткульта прибыл в город с гастролями, заодно было решено наработать и материал для «Стачки» на местном заводе: в главных ролях предполагались актёры, в эпизодических и второго плана – местные жители. График работ беспощадный: с утренней зари и до ночной – съёмки; вечерами – спектакли в клубе. И так – до отъезда в августе.
Приехали из Москвы и цирковые артисты – для исполнения особо сложных «трюков на станках», аж десять человек. Михин, который самолично подписывал смету на засъёмку, имел на этот счёт пару суровых схваток с режиссёром, но проиграл – не сумел сократить количество трюкачей хотя бы вдвое. И уже в Коломне с ужасом обнаружил, что среди санкционированных акробатов затесались-таки два лилипута: с носорожьим упрямством Эйзен тащил свои сценарные идеи – всех этих карликов, кокоток, фраки-цилиндры, бриллианты-шампанское и прочую позолоченную гниль – из европейских картин в русский провинциальный пейзаж.
– А что же ваш верблюд? – пытался язвить Михин. – Почему без него? Мог бы телеги с запчастями по территории тягать. Или рабочих на тайную сходку возить.
– Откуда же верблюды в Коломне? Окститесь, Михин, – парировал невозмутимо Эйзен. – Мы не комедию снимаем, а революционную фильму. Мне нужны мартышка, дрессированная ворона, бульдог и жаба – как можно крупнее и как можно противнее лицом.
Увы Михину, это была вовсе не шутка. Съёмки животных – а их предполагалось в картине едва ли не больше, чем главных героев, – обернулись кошмаром для помрежа Александрова и крепкой задачкой для оператора Тиссэ.
Мартышка по сценарию была кличкой полицейского шпика, что злостно вредил рабочему движению. Эйзен задумал снять обоих – человека и одноимённую зверушку – сосущими вино из бутылки, чтобы позже склеить два кадра в одну фразу-метафору. Но если актёр справился на отлично – хлебал из горла абсолютно по-звериному, вытягивая губёхи, пуча глаза и корча дуралейные рожи, – то животное не хотело использовать бутылку по назначению. Обезьянка заглядывала в горлышко, свистела в него, обнимала сосуд четырьмя лапами и укачивала, как детёныша, – но только не сосала. Налили вместо воды молока – не сосёт. Затем киселя, сладкого морса – не сосёт. Собрали в заводской столовой все имеющиеся бутылки и принялись дружно обучать упрямицу: пятеро великовозрастных дядек, включая каланчу Грига – Гришу Александрова – и корпулентного Эйзена, ходили перед мартышкой на карачках, припав губами к горлышкам, причмокивая и сглатывая смачно. Не сосёт! Наконец по указанию Михина и тайком от работника цирка шапито, откуда доставили животное, подлили в морс пару ложек самогона – и пошло дело. Мартышка выхлебала коктейль, как заправский алкаш, а дойдя до дна, потребовала ещё – Тис только успевал крутить ручку аппарата. Не получив добавки, захмелевшая артистка разбуянилась и со злости запустила бутылкой в кого-то из актёров (синяк потом пришлось несколько дней маскировать пудрой). К тому времени нужные метры были уже засняты. На «зооалкогольные приключения» ушла половина съёмочного дня – ради единственного кадра-метафоры. Михин беспрестанно подсчитывал в уме стоимость этого кадра – и беспрестанно страдал.
Ещё полдня ушло на Бульдога. Это была кличка второго шпика. И его появление на экране, конечно, предполагалось также сопроводить карикатурным сравнением – с собакой той же породы. Найти бульдога в Коломне – настоящего английского, голубых кровей – оказалось несложно. А вот заставить его подышать с высунутым языком на камеру – ещё как. «Это же элементарно! – сокрушался Эйзен. – Это умеют все псы на свете!» Июль выдался знойным, и по заводским окраинам действительно валялись дворняги – все как на подбор с высунутыми от жары языками. И только бульдог-аристократ не желал быть как все. Его сажали на палящее солнце, потом заводили в цех, где плавили металл (предварительно выключив станки, чтобы не испугать артиста), – пёс лишь кривил презрительно губы и капал слюной на пол. Рта не раскрывал. Ему не давали пить – смотрел, как Джордано Бруно на инквизиторов. Рот – на замке. «Эх ты, Антанта!» – устало огрызнулся Гриша; именно ему пришлось водить собаку по всем горячим точкам и потеть вместе. Пёс оказался политически сознательным: тотчас обиделся, сорвался с поводка и дёрнул прочь – мимо заводских цехов, через проходную, прямиком к царь-луже, – куда и плюхнулся с наслаждением, по-бегемотьи распахивая рот и жадно глотая. «Вот тебе и аристократ!» – смеялся Тис, который скакал следом с камерой наперевес. Выкупавшись и нахлебавшись воды, бульдог вылез на берег – довольный, с широко раскрытой пастью и вывешенным наружу аршинным языком. Позволил Тису заснять себя со всех сторон – кажется, из всей съёмочной группы только его и считал за человека.
«Ворону давайте возьмём самую простую, уличную, без всех этих цирковых штучек», – с надеждой попросил Михин. Однако «без штучек» не получилось: обычные каркуши не желали сидеть на заводской трубе под прицелом камеры и соблюдать задуманную геометрию кадра, так что пришлось опять обращаться за подмогой в шапито. Репутацию умной птицы дрессированная ворона подтвердила – смену отработала блестяще. Правда, после её визита у лилипутов пропал фальшьбриллиант со сценического костюма, а у заводского мастера – зеркальце на полтора дюйма.
Последний зоологический подвиг состоял в поимке жабы – самой настоящей, с «максимально противным лицом». Ловили всей съёмочной труппой – кто в царь-луже на заводской площади, кто по берегам Оки. «Мала», «недостаточно противна», «чересчур худа», – отвечал режиссёр на все усилия. Послали в зоомагазин – жабы на продажу оказались также неудовлетворительны. Десять съёмочных часов – пока солнце стояло высоко – искали нужное земноводное. Восемь из этих десяти Григ провёл в Оке, гоняя головастиков и охотясь за их родителями. Когда нашли подходящую «актрису», вполне омерзительную и размером аж с полбуханки хлеба, – светило уже макнулось за горизонт, и съёмку пришлось отложить до завтра.
– А теперь нужны люди – не менее толстые и не менее отвратительные, – заявил Эйзен после того, как земноводное отработало сцену и было выпущено обратно в реку.
Нужны они были для отрицательных ролей. Карикатура – а она всегда просвечивала сквозь все творения Эйзена, будь то эскизы театральных костюмов некогда или режиссура фильма сейчас, – не терпела нюансов. Карикатура диктовала выявить и выпятить – вытянуть из глубины персонажа его суть и выставить на смех. Типажи выставляемых были уже разработаны в советской сатире: если богач расейского разлива – то непомерной толщины и тупости (вкупе с обязательными фраком и цилиндром); если иностранного – то язвенной худобы и гнилозубый (плюс всё те же цилиндр и фрак). Оставалось только перенести узнаваемые образы на экран.
Целых трёх толстяков задумал в картине Эйзен – трёх богатеев немыслимой толщины (конечно же, в специально пошитых фраках немыслимой же ширины). Сыскать эдаких раскормышей в пролетарской Коломне оказалось много труднее, чем породистых бульдогов, – и пришлось поездить по деревням в округе. Кое-как наскребли троих. Зная нрав режиссёра, Михин каждому перед показом надел «толщинку» – накладной живот из ваты поверх настоящего пуза, чтобы объём актёра из внушительного превратить в сверхъестественный. Бутафория сыграла на руку: закутанные в вату несчастные кандидаты потели на жаре так обильно, что были немедленно утверждены. «Капли пота будем снимать крупно – чтобы как виноградины!» – остался доволен Эйзен.
К толстякам был задуман для контраста ещё и четвёртый богач, скелетообразный. Живых мощей в городке оказалось хоть пруд пруди, однако зубы у большинства были хоть и плохи, и кривы, и редки – а «не зловещие».
– Зловещие зубы – это как? – выходил из себя Михин. – Это что?!
Обращался уже не к режиссёру – бесполезно! – а к оператору.
– Ему улыбка нужна, как у дьявола, – пояснял Тиссэ буднично, словно рассказывая устройство линзы своей Éclair. – Чтобы заглянул в пасть, а в ней вся мерзость мира.
Дьявольский оскал искали долго. Каждому претенденту Эйзен предлагал выдрать пару нижних клыков для усиления эффекта, чем отпугивал и без того скудных желающих. Обошлись-таки без дантиста – в выбранной челюсти подкрасили пару резцов золой, чтобы создать «гнилое ощущение». Тиссэ заснял улыбку таким крупным планом, что Михина слегка замутило. Возможно, это была просто усталость.
Работа с Эйзеном оказалась невыносима. Договариваться тот не умел, а только требовать. Всё желаемое хотел получить сполна, без скидок на бюджет, возможности актёрского организма, погоду или земное притяжение. А если не получал – взвивался как ошпаренный: бранясь, грозясь, возвышая чуть не до визга и без того тонкий голос и швыряясь реквизитом для острастки.
В один день заказал тысячу статистов для сцены митинга – не триста, не шестьсот, а именно и непременно тысячу. «Пять сотен легко заполнят кадр», – возразил Михин, поначалу терпеливо. – Нет, подавай тысячу. – «В смету не уложимся», – пояснил ещё. – Тысячу, и точка! – «Не справимся с эдакой армией», – уже потерял терпение. А Эйзен обиделся и убежал – недалеко, всего-то на заводской двор. Артисты на площадке в цеху ждут, оператор, помрежи, ассистентов полдюжины, вся производственная линия стоит, замерев на время съёмки, а режиссёр бегает по двору, обиженный. Час бегает, второй – к работе не приступает. «Ладно, – махнул рукой Михин. – Ваша взяла! Будет вам тысяча!» На том и успокоились. Михин тайком велел набрать в массовку пять сотен, а объявить их как тысячу – Эйзен и не заметил обмана.
На другой день ставили в цеху потасовку рабочих: одни-де бастовать хотят, а другие штрейкбрехерствуют – вот и сцепились. Драку гаечными ключами репетировали до изнеможения, чтобы инструменты сверкали и крутились, как цирковые булавы, а сами драчуны разлетались от ударов друг друга строго по намеченным траекториям (их Эйзен прорисовал на полу мелом). Это Михин ещё выдержал. И эквилибристику на станках – выдержал. И сальто через проходы.
Но вот Эйзен взялся за сцену с табуреткой. По замыслу, героя лупят ею по макушке, да так, что каждый удар отбивает у табуретки по кусочку: сначала отскакивают по одной все четыре ноги, а после разламывается пополам сиденье. Одним кадром, без склеек: пять ударов – пять стадий распадения. Мебель распилили в нужных местах, чуток подклеили. На репетициях всё шло гладко, но стоило включить киноаппарат – и табуретка переставала слушаться: то слишком быстро разлеталась на куски, то вообще не желала. Актёру, о чью голову разбивали упрямый предмет, скоро потребовался дублёр. И, как выяснилось чуть позже, не один. Эйзен метался по площадке и костерил табуретку, то и дело вставляя крепкое бранное словцо. Та – не внимала.
Тут уж выдержка у Михина иссякла. Однако и силы на ругань – тоже.
– Найду другого режиссёра! – вздохнул в сердцах, обречённо.
– Такого – не найдёте, – заметил актёр-мученик, потирая ушибленный череп.
Михин знал, что актёр прав.
Что-то всё-таки было в этом визгливом юноше с внушительной фамилией Эйзенштейн помимо надрыва и истерик – и это необъяснимое пленяло Михина. Не его одного – всю съёмочную группу. То ли предельная острота ума. То ли умение мгновенно доставать из рукава десятки аллюзий – библейских, литературных, исторических – и жонглировать ими перед восхищённой публикой. То ли злой язык, рассыпающий шутки и матерные словечки, словно конфетти. То ли ощущение твёрдой воли в оболочке рыхлого тела и детского поведения – она не умела проявить себя иначе, а только через скандалы и верещание, но это была именно воля. Или всё же авторский каприз?
За недели совместной работы Михин так и не сумел понять, как именно хочет Эйзен собрать воедино весь пёстрый материал, что наснимал в Коломне (израсходовав, кстати, в четыре раза больше плёнки, чем было запланировано). Одни сцены были сделаны вполне правдоподобно: массовые шествия рабочих или их разгон полицейскими могли сойти за хронику – благодаря мастерству Тиссэ и его богатым навыкам хроникёра. При этом другие эпизоды – цирк в чистом виде, с сальто-мортале и дрессированными зверями. Третьи кадры – словно из заграничных фильмов. А четвёртые – из кошмарных снов.
Страсть Эйзена к ужасному – казалось бы, несовместимая со страстью к цирку и клоунаде – так и осталась для Михина загадкой. Зачем, к примеру, потребовался режиссёру забой быков? Целый день провели на скотобойне, снимая чудовищные сцены: животных били кувалдой по лбу, а после вскрывали им горло. Тиссэ долго фиксировал, как тугими ударами хлещет из раны кровь, едва не брызжа на линзу киноаппарата. А Эйзен, что вчера ещё ругался с табуреткой и учил мартышку лакать вино, этот самый пышка Эйзен с волосами, как лохматый нимб, и девчачьим голосом сегодня стоял рядом с камерой и кровожадно требовал всё новых кадров – новых жертвенных тельцов.
Или зачем понадобилось убивать ребёнка? Эпизод наказания стачечников полицией был выразителен и без того: конные фараоны скакали по лестницам рабочего дома и лупили жильцов нагайками. Вполне эффектно и динамично; иными словами, хорошее кино. А режиссёр задумал усилить впечатление: чтобы один из всадников схватил бы малыша-двухлетку – ангела во плоти, со светлыми глазами и снежно-белыми кудрями – и подержал бы за пухлую ножку вниз головой, а после швырнул с высокого этажа. Избиение младенцев оказалось очень сложно снимать. Боялся ребёнок – не хотел висеть вверх ногами и падать в натянутую над землёй сетку-лонжу. Боялась мать – её дитя держали над пропастью не пару секунд, а целую минуту, давая возможность камере хорошо отработать. Более всего боялся всадник, чьими руками творилась жестокая сцена, – постоянно просился на перекур. Не боялся один Эйзен – кричал и суетился, подначивая актёров играть выразительнее. Сделать смогли всего пару дублей: всадник отказался играть больше, а желающих дублёров не нашлось…
– Что вы обо всём этом думаете, Эдуард? – спросил Михин однажды в конце смены у Тиссэ, когда рядом никого не было.
Хотел сказать «обо всём этом цирке», но сдержался.
– Я думаю, мы снимаем очень честное кино, – ответил тот. – Оно не притворяется жизнью.
Тиссэ снимал жизнь с того дня, как мальчишкой впервые взял в руки аппарат системы Pathé
О проекте
О подписке
Другие проекты


