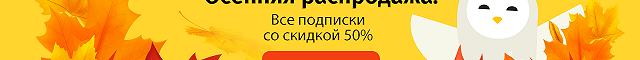
4. Знакомство с живописью
Если бы я постоянно горевала из-за перелицованного пальто или узкого диванчика для сна в общей с мамой комнате, то вряд ли мой внутренний Малыш трансформировался бы в Писателя. К счастью, за стенами дома был большой, как океан, и прекрасный мир. И я стремилась познать его.
Моя составная семья из бабушки с дедом и примкнувшей к ним позже мамы была далека от всех видов искусства. Лишь связанные бабушкой кружевные салфетки на этажерку или наволочки на диванные подушки, вышитые крестиком мамиными руками, говорили об их стремлении украсить свой быт.
Но первое моё знакомство с изобразительным искусством состоялось в комнате соседей по коммунальной квартире. Эти соседи жили с нами недолго, и детей моего возраста у них не было, но изредка они тоже приглашали меня к себе в комнату и показывали иллюстрации всевозможных картин. К тому времени я, как каждый пятилетний ребёнок, уже умела нарисовать цветными карандашами кособокий домик и солнышко с расходящимися прямолинейными лучами, но настоящих картин не видела.
Каждый раз, когда образованная соседка пускала меня в свою комнату, я просила её показать мне особенные картинки – цветные литографии с картин русских художников. Они имели размер, сравнимый с форматом журнала «Огонёк» тех лет, и лежали в специальной папке с тесёмками. Из тех литографий меня тогда особенно поразила и напугала копия картины Брюллова «Последний день Помпеи». Руины погибшего города, ставшего жертвой незнакомой мне стихии – огненного вулкана, – растерянные и мёртвые люди, испуганные дети. Я дрожала от страха, глядя на это изображение. И это несмотря на то, что Великая Отечественная закончилась лишь пять лет назад, в год моего рождения. Но недавняя война, известная нам, детям, лишь понаслышке, казалась чем-то далёким и завершённым. Кинофильмы я ещё не смотрела, и телевизора у нас не было. А картина, изображающая древние события, была явлением настоящим и пугающим.
Когда несколько лет спустя я увидела подлинное полотно Карла Брюллова в стенах нашего Русского музея, впечатление оказалось менее сильным, чем от маленькой копии, увиденной в детстве. Но в Русский музей я попала много позднее, лет в 10–12, когда ездила по городу уже одна.
А первым музеем, куда меня привела мама, оказался Железнодорожный музей. Он находился в нашем районе – возможно, поэтому и был выбран мамой для воскресной экскурсии. Сейчас у каждого второго малыша есть детская железная дорога: рельсы, будки стрелочников и миниатюрные вагончики, но я тогда, в свои семь лет, увидела всё это впервые – ни у кого из моих сверстников таких конструкций не было. Я, уткнув нос в стеклянные витрины, разглядывала всё это великолепие, пытаясь соотнести с миром настоящих железных дорог!
Настоящий железнодорожный вокзал и железную дорогу я уже видела года два назад, когда бабушка отвозила меня в гости к маме, тогда ещё жившей в соседнем Выборге. И хорошо запомнила своё знакомство с паровозом. Запомнила, потому что испугалась, впервые услышав его резкий, пронзительный свисток. Страх непонятного обрушился на меня, и я спряталась, уткнув голову бабушке в колени.
5. Первая встреча с морем
Поезда я любила, и особенно отложилась в памяти моя первая самостоятельная поездка в Батуми – фронтовая подруга мамы пригласила меня погостить к себе на каникулы. Мне было шестнадцать лет, я стояла у окна вагона, под ногами вздрагивали на стыках колёса поезда, и я испытывала нетерпение от встречи с морем точно так, как лирический герой тогда обожаемого мною Евгения Евтушенко:
…Курортники толпились в коридоре,
смотрели в окна:
«Вскоре будет море!»
Одни,
схватив товарищей за плечи,
свои припоминали
с морем встречи.
А для меня
в музеях и квартирах
оно висело в рамках под стеклом.
Его я видел только на картинах
и только лишь по книгам знал о нём.
И вновь соседей трогал я рукою,
и был в своих вопросах
я упрям:
«Скажите, скоро?..
А оно – какое?» —
«Да погоди,
сейчас увидишь сам…»
И вот – рывок,
и поезд – на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло всё вокруг —
и только море,
затихло всё,
и только шум его…
Когда я пожирала море глазами из окна летящего поезда, то меня охватывало предчувствие невероятного. Но в полной мере я ощутила море кожей чуть позже, когда входила в воду, осторожно ступая босыми подошвами на раскалённую от солнца каменистую гальку пляжа. Вода, в отличие от наших северных озёр, принимала моё тело с нежной лаской и теплом, не испытывая холодной свежестью. Плавала я неважно. Часто-часто махала руками, чудом проплывала «саженками» метров десять, однако смело заходила в воду почти по горло, едва доставая кончиками пальцев дна.
Однажды я прочувствовала настоящий норов моря, когда, зайдя в воду в лёгкий шторм, вдруг поняла, что не могу выбраться из воды на берег. Вначале волна обманчиво подталкивала меня к берегу, поднимая на гребень пенящейся воды. Однако, не дожидаясь моих последних шагов на сушу, волна вдруг резко подавалась назад, накрывая меня с головой. Раз за разом волна несла меня к берегу и тут же снова отбрасывала в море, царапая лицо мутными взвесями гальки.
Я выбралась всё же самостоятельно, навсегда запомнив испытанный мною ужас перед неподвластной мне стихией.
Но полученный мною урок не стал препятствием к дальнейшему общению с морем. От той первой поездки на юг остались наилучшие воспоминания. Ведь на море мы приходили большой компанией девушек и местных армянских парней. Там, в Батуми, я с удивлением узнала, что армяне и грузины, живущие в городе, друг друга недолюбливают. Мне казалось это странным, ведь ещё до появления известной песни «Мой адрес – Советский Союз» утверждение о единстве народов нам, послевоенным детям, казалось непреложной истиной. И в то лето, одним удушливо-тёплым кавказским вечером, я впервые поцеловалась с мальчиком. Им был мой ровесник, армянин Иосиф. Этот невинный летний роман завершился без всякого надрыва, мы даже не обменялись со знойным красавцем адресами для переписки. И кажется, что под конец моего отдыха спутником моих вечерних прогулок стал уже не менее красивый грузин.
В своей взрослой жизни я ещё не раз выезжала и на Кавказское побережье, и в Крым, но уже никогда не испытывала такого полного единения с морской стихией. Приходилось мне бывать и на Балтийском море – уже студенткой: проходила практику на морском полигоне в тогда ещё родственной Эстонии. А много позже случались служебные командировки на суровое Белое море, куда ездили курировать строительство кораблей специалисты нашего исследовательского института.
И вот что удивительно: рядом с морем я никогда не испытывала болезненного одиночества, не уходила внутрь себя, не ощущала каким-то там покинутым Ребёнком. Мои глаза бездумно созерцали морские просторы, когда я присаживалась даже на розоватых валунах побережья Финского залива. Море переполняло мою душу, вытесняя всё мелочное, необязательное, сиюминутное. И я сама становилась морем.
6. Дача в посёлке Вырица
Пока я росла, я не задумывалась, где проводить лето. Каждый год бабушка с дедушкой снимали дачу в одном из посёлков Карельского перешейка: озеро, хвойный лес, ягоды и грибы – незатейливое времяпровождение моих каникул. Лишь разовый выезд в пионерлагерь и парочка визитов к родственникам-знакомым в другие края разнообразили мои летние каникулы.
Но, когда у меня появилась своя семья, летний отдых для всех, особенно для детей, стал у нас главной проблемой: собственная дача мерещилась только в мечтах.
Я с одной или обеими дочками уезжала на каникулы в разные края нашей тогда огромной страны. Иногда покупали туристические путёвки, иногда ездили дикарями. Я побывала с ними в Белоруссии и Литве, в Подмосковье и в Закарпатье, и на разных черноморских курортах Кавказа и Крыма. Объездила почти всю Европейскую часть СССР. Но этими поездками я могла закрыть только один из трёх каникулярных месяцев наших детей, ведь мой отпуск составлял двадцать четыре рабочих дня. В свою очередь муж забирал детей и ехал к себе на родину, в маленький городок Белоруссии. Там его и внучек откармливала картофельными драниками белорусская бабушка Наташа. Моя мама не соглашалась жить на съёмных дачах с девочками и обычно проводила отпуска в санатории, подлечивала здоровье. Когда мои дочки подросли, на одну-две смены их стали отправлять в пионерский лагерь.
Так и перебивались, дробя лето на куски. И лишь однажды мы сняли дачу на весь сезон. Мы состыковали с мужем наши отпуска так, чтобы охватить почти все три летних месяца. На работе мне удалось дополнительно к очередному отпуску выбить две недели за свой счёт.
Эту дачу семья сняла совместно с семьёй моей подруги-сослуживицы Людмилы. Наш общий дачный дом находился в посёлке Вырица в нашей области. Дом на тот момент был недостроенным: только сруб и крыша, но это не охладило наш энтузиазм – ведь на случай холодной погоды имелась печь, обогревающая обе наши комнаты. Очень скоро мы с подругой убедились, что было ошибкой смешивать духовное общение с бытовым. Мы добровольно устроили коммунальную квартиру с общей кухней и с характерными для неё войнами «примусов». Кстати, готовить приходилось на керосинках – древних устройствах с тускло горящими в керосине фитилями. После городских газовых плит это представлялось почти непреодолимой сложностью.
Лето, как назло, выдалось холодным. Мне помнятся наша огромная неуютная комната, с бревенчатыми стенами, уплотнёнными серым мхом; черновой дощатый пол со щелями, сквозь которые тянуло холодом из неотделанного цокольного этажа. Помню и себя: стройная ещё молодая особа с короткой стрижкой – впервые подстриглась коротко ради удобства ухода за собой. Ведь мне, городской женщине с двумя детьми, приходилось метаться между керосинкой, печью и тазом с грязным детским бельём. Викочке исполнилось полтора года; Жанночка в тот год собиралась идти в первый класс. Вичку запомнила как неуклюжую малышку, укутанную всегда в нескладную шерстяную (сама связала) кофту и великие ей колготки, сползающие по ногам гармошкой. Эти колготки давно потеряли свежесть и цвет, потому что перешли ребёнку от старшей сестры. Да, с погодой в то лето не повезло! Так что и шестилетняя Жанча пробегала всё лето в синем вельветом платьице с длинным рукавом. Обе то заливались кашлем, то захлёбывались соплями, вылетающими из носа. И каждый вечер мы с подругой Людмилой, засыпав в нутро печи порцию мелко дроблённого угля, разжигали в ней огонь, чтобы чуть-чуть согреть продуваемый сквозняками дом.
Половину дня приходилось проводить в полутёмной кухне, её мы делили с Людмилой на двоих. Мы варили каждая на своей керосинке кашу, суп, компот или кисель. У Люды на тот момент была только одна дочка, ровесница моей младшей, её звали Юля. Будучи от природы медлительной, начинающая тогда полнеть Людмила часто сидела на похудательной диете и еле справлялась с одним ребёнком, стараясь всё приготовить по правильным рецептам. Иногда у нас возникали мелкие споры, связанные то с уборкой мусора, то с запахом от подгоревшей сковороды, то с расходом воды, – её приносили по очереди в вёдрах из колодца. У каждой из нас на кухне постоянно подгорала каша или убегало из кастрюли молоко, заливая фитиль керосинки.
Кстати, именно молоко и стало главным бонусом, склонившим нас снять тот недостроенный и неуютный дом. Во времена всеобщего дефицита – то был конец 70-х годов – купить разливное молоко в магазине было трудно. За ним стояли двухчасовые очереди, и оно могло кончиться перед носом. Но у нас молоко было всегда! Мы получали его, как тогда говорили, по блату. Утром заносили с чёрного входа в подсобку магазина свои два бидона, отдавая их продавщице. На столе в подсобке стояло несколько белых, чаще двухлитровых, бидончиков: у каждого из продавцов было много блатных покупателей. На каждый бидон хозяева привязывали к ручке бантиком разноцветные тесёмки, чтобы отличать своё имущество. В удобное время я или Людмила забирали оба бидона и приносили их домой. Такое счастье нам было даровано за то, что мы сняли недостроенный новый дом у этой продавщицы. Сама хозяйка проживала в другом месте.
Наш быт оказался очень непростым для горожанок, привыкших дома к газу и водопроводу, но ради детей мы готовы были на всё. Девочки всегда были на глазах: то орудовали совочками в песочнице на солнечной полянке, то бегали по участку между стройными, устремлёнными к небу соснами. Желтоватые смолистые стволы одаривали детей целебными фитонцидами. Но иногда светлые панамки младших обнаруживались в густых зелёных зарослях папоротника – за ними скрывалась хозяйственная часть двора. Мы кидались ловить малюток, прежде чем они доберутся до помойки и будки уличного сортира.
Но были у нас с подругой и приятные часы общения. Обычно оно проходило за мытьём посуды. В середине участка возвышался сколоченный из неровных досок стол на столбиках, врытых в землю. На нём собиралась грязная посуда, скопившаяся от завтрака и приготовления обеда: алюминиевые миски, тарелки с трещинами, эмалированные кастрюльки и ковшики из-под сгоревшего молока. Перед каждой хозяйкой стоял тазик с мутноватой водой, а в руках – мочалка для посуды. Наше почти ритуальное мытьё посуды обычно сопровождалось глубокомысленным философствованием и обсуждением новинок литературы. Кулинарная затейница Людмила, хотя, как и я, окончила технический вуз, и даже с красным дипломом, тоже увлекалась искусством и живописью и сама сочиняла стихи. Однажды за мытьём посуды мы вместе сочинили опус о нашем времяпровождении.
Шумит сосна над головой,
А в миске плещется вода,
Посуду моем мы с тобой
За разговором, как всегда.
Течёт неспешная беседа,
Снуют детишки между ног,
А время движется к обеду —
Они с травой жуют песок.
О проекте
О подписке