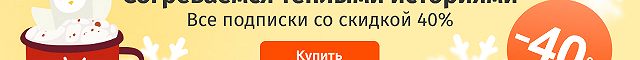
Мы с братом пили холодное молоко, а мать с сестрой прикончили целую бутылку белого вина, которую мы купили у немцев. Отец хранил это вино для особого случая. Ужин начался с белого хлеба, масла и вишневого джема, потом ели копченый окорок, сладкий картофель, жареную индейку, жареную рыбу, фаршированную диким чесноком, стейки, запеченные на углях, последние весенние сморчки, тоже зажаренные в масле, и теплый салат из амаранта и шпината, заправленный сливочным маслом с чесноком. В жизни не ел так много масла. На десерт было целых два пирога – с ежевикой и со сливой, которые сегодня набрал братец. В кладовой не осталось ничего, кроме сухарей и солонины. Если отцу хочется гарцевать в компании с Сифилитиком, заявила мать, пускай и питается, как Сифилитик.
Я чувствовал себя немножко виноватым из-за отца, но не мог удержаться и с удовольствием умял свою порцию. А вот мать совсем не смущалась и даже потребовала еще вина. После ужина всех сморило.
Я отнес остатки окорока в холодный погреб к роднику и присел поглядеть на звезды. Я сам придумал им названия: Козел, Гремучая Змея, Бегущий Человек, – а братец вечно совал мне Птолемея, в котором никакого толку. Дракон похож на змею, а вовсе не на дракона. Большая Медведица выглядит в точности как бегущий человек, никакого медведя там ни в жизнь не разглядеть. Но мой брат не выносил того, в чем была хоть толика здравого смысла, и все мои попытки переименовать созвездия провалились.
Я загнал лошадей в конюшню, запер ее изнутри, а сам выбрался через крышу. Если индейцы задумают их увести, это потребует времени. Лошади стояли спокойно – добрый знак, потому как индейцев они чуяли лучше, чем собаки.
Когда я вернулся в дом, мать с сестрой уже улеглись на родительской кровати, а брат устроился на койке сестры. Обычно-то мы с ним спали в своей комнате, но в этот раз я не стал возражать. Пристроив ружье, патронташ и башмаки рядом с кроватью, я задул последнюю свечу и забрался под одеяло к брату.
* * *
Около полуночи собаки затеяли свару. Все равно я спал вполуха и сразу подскочил к двери, немножко волнуясь, как бы мама или сестра не заметили, что там торчит у меня из-под ночной рубахи.
Но тут же забыл обо всем. Дюжина мужчин у забора, еще больше в тени у дороги и еще больше на скотном дворе. Раздался собачий визг, а потом самая маленькая наша собачонка, Пердида, метнулась в кусты, как раненый олень.
– Вставайте все, черт побери! – шепотом завопил я. – Мам, подымайся. Давайте, все, подъем.
Луна уже взошла, и было светло как днем. Индейцы вывели со двора трех лошадей. Любопытно, как они сумели пробраться в конюшню. Наш бульдог крутился у ног высокого воина, будто тот был его лучшим приятелем.
– Подвинься-ка. – Брат, мама и сестра выбрались из постели и стояли позади меня.
– Там полно индейцев.
– Наверное, это Задира Джо и его тонки, – предположил брат.
Я молча уступил ему наблюдательный пункт и пошел поворошить очаг, чтобы стало немного светлее. С тех пор как провозгласили республику, с индейцами не было проблем: американская армия постоянно присутствовала в Техасе, охраняя границы. Интересно, где эти вояки сейчас. Я подумал, что нужно зарядить все оружие, потом вспомнил, что уже сделал это. Вспомнился стишок: ручка костяная, лезвие «Барлоу», лучше нет подарка другу дорогому. Я знал, что будет дальше: индейцы начнут ломиться в дверь, мы их, разумеется, не впустим, тогда они попытаются двери выломать. А когда устанут или им надоест, просто запалят дом и перестреляют нас, когда мы начнем выскакивать наружу.
– Мартин? – нетерпеливо окликнула мать.
– Он прав. Их по меньшей мере пара дюжин.
– Тогда это, наверное, белые, – предположила сестра. – Банда конокрадов.
– Нет, это точно индейцы.
Я устроился с ружьем в углу, точно напротив двери. По стенам, в приглушенном красном свете, метались тени. Интересно, попаду ли я в ад. Мать с сестрой уселись на кровати, брат мерил шагами комнату. Мать гладила сестру по голове, приговаривая: «Ш-ш-ш, Лиззи, все будет хорошо». В полумраке их глаза казались пустыми впадинами, как будто грифы уже добрались до них. Я отвернулся.
– Твое ружье уже взведено, – сказал я брату. – И пистолеты тоже.
Он покачал головой.
– Если мы начнем стрелять, они, может, обойдутся только лошадьми.
Я подумал было, что он станет спорить, но он молча отошел в угол и взял ружье.
– Я уже взвел, – повторил я.
– Может, они подумают, что нас нет дома, – пролепетала сестра, с надеждой глядя на брата.
– Они видят, что у нас огонь в очаге горит, Лиззи.
Слышно было, как индейцы бряцают какими-то железками в сарае, тихо переговариваясь. Мама подтащила табуретку к двери и встала на нее, чтобы посмотреть в маленькую амбразуру наверху.
– Я вижу только семерых.
– Их не меньше тридцати, – буркнул я.
– Папа придет на помощь, – проговорила сестра. – Он узнает, что они здесь.
– Возможно, когда увидит пламя, – вздохнул брат.
– Они идут сюда.
– Слезь оттуда, мам.
– Тише, – испугалась сестра.
В дверь ударили, и мама едва не свалилась с табурета. Salir, salir[12]. Грохот в дверь. По-испански говорили почти все дикари, если они вообще говорили на каких-либо языках кроме родного. Дверь могла выдержать лишь несколько выстрелов, и я потянул маму подальше от входа.
Tenemos hambre. Nos dan los alimentos[13].
– Это смешно, – сказал брат. – Кто в это поверит?
Наступила тишина, а потом мама обернулась к нам и произнесла специальным «учительским» голосом:
– Илай и Мартин, пожалуйста, положите ружья на пол.
Она начала отодвигать засов, и тут я понял, что все, что говорят про женщин, – правда. У них действительно нет здравого смысла, и им нельзя доверять.
– Не открывай дверь, мама!
– Держи ее, – бросил я Мартину. Но он не шелохнулся.
Я смотрел, как поднимается засов, и поудобнее перехватил ружье. Лунный свет хлынул в образовавшуюся щель, но мать ничего не заметила; она отодвигала засов, как будто впускала в дом старых друзей, как будто ждала этого момента со дня нашего появления на свет.
* * *
В газетах пишут, что матери на границе приберегают последние пули для своих детей, чтобы те не достались дикарям, но никто никогда не слышал о таких случаях. На самом деле все наоборот. Всем понятно, что я, например, в самом подходящем возрасте – индейцы обязательно сохранят мне жизнь. Брат и сестра чуть постарше, но сестрица хорошенькая, а брат выглядит младше своих лет. А вот матери нашей почти сорок. И она прекрасно понимала, что с ней сделают.
Дверь распахнулась, двое мужчин оттолкнули мать с дороги. Третий остановился на пороге и, прищурившись, пытался рассмотреть, что происходит в полумраке комнаты.
Грянул мой выстрел, он взмахнул рукой и рухнул на спину. Индейцы бросились прочь, я крикнул брату, чтобы прикрыл дверь, но он не шевельнулся. Я сам кинулся закрывать ее, но мертвый индеец лежал прямо на пороге. Я ухватил его за ногу, пытаясь втащить внутрь, и тут он пнул меня прямо в челюсть.
Когда я пришел в себя, деревья качались в лунном свете, в ночи раздавались крики. Индейцы сгрудились по ту сторону двери; они возникали на пороге, стреляли и вновь отскакивали за угол. «Мартин, кажется, меня ранили», – послышался крик сестры. Брат сидел неподвижно. Я подумал, что его подстрелили. Стрельба на минуту стихла, потому что пороховой дым мешал прицелиться, и я успел выхватить ружье из рук брата, проверил, взведен ли курок, и направил ствол в сторону двери, но тут мать остановила меня.
Потом я очутился на полу. Сначала показалось, что дом рухнул, но это был какой-то индеец. Я вцепился в его шею, но моя голова вновь стукнулась об пол. Очнулся я на улице, под деревьями.
Попытался было подняться, но меня сбили с ног, и еще, и еще. Чьи-то ноги, земля, опять ноги в мокасинах. Я вцепился зубами в эту ногу и получил очередной удар, а потом меня ухватили за волосы, будто собираясь вырвать их с корнем. Я ждал удара топором.
Приоткрыв глаза, увидел перед собой огромное красное лицо. От человека пахло луком и выгребной ямой, и он пригрозил мне ножом, без слов объяснив: или я веду себя тихо, или он отрежет мне голову. Потом он крепко связал мне руки.
Он не похож был на индейца. Аборигены, жившие рядом с белыми, были сухощавыми, маленькими и легкими. А этот здоровенный и грузный, с квадратной головой и широким носом; он больше походил на негра, чем на долговязого голодного индейца, и шел, выпятив грудь, как будто имел полное право грабить нас.
За воротами сгрудились штук двадцать лошадей, и столько же индейцев хохотали и перебрасывались шуточками. Никаких признаков матери, или сестры, или брата. Индейцы были голые до пояса и все раскрашены, точно сбежали из бродячего цирка, у одного лицо разрисовано как череп, у другого такой же череп намалеван на груди.
Несколько индейцев обшаривали дом, некоторые рылись в конюшне и сарае, но многие просто стояли в стороне, лениво привалившись к забору. Белые, которых я знал, после перестрелки обычно еще несколько часов нервничали, громко разговаривали, никак не могли успокоиться, а эти индейцы позевывали, потягивались, словно вернулись с мирной вечерней прогулки. Кроме, разве, того, в которого я стрелял. Он сидел под стеной дома, на губах у него пузырилась пена, а грудь окровавлена. Он, наверное, отскочил в сторону, когда курок щелкнул, – говорят, у дикарей рефлексы, как у животных. Его дружки заметили, как я на него смотрю, подскочили и заорали таибону вукупатуи[14], а потом сильно ударили меня по голове.
Я надолго провалился в беспамятство и даже успел предстать перед неким человеком, который должен был судить меня за все мои грехи. Это оказался святой Петр, но почему-то похожий на нашего школьного учителя, который меня терпеть не мог, и я понял, что отправляюсь в ад.
А потом индейцы сгрудились вокруг чего-то, лежащего на земле. Белые ноги, извивавшиеся в воздухе, а между ними голая мужская задница и кожаные штаны. Я увидел, что это моя мать, и по тому, как двигался мужчина, как ритмично позвякивали колокольчики на его штанах, догадался, что он с ней делает. Потом он встал, поправил одежду, и на его место прыгнул следующий. Я приподнялся, но в ушах зазвенело, земля полетела мне навстречу, и я подумал, что на этот раз точно уже умер.
Прошло время, и я вновь услышал голоса. Неподалеку от забора заметил еще одну кучку индейцев и расслышал стоны сестры. Индейцы делали с ней то же, что и с матерью.
* * *
Мне казалось, что я просто сплю. Это сон. И все было прекрасно, пока я не очнулся окончательно под воинственные вопли и не увидел, что все еще лежу в нашем дворе. Мать, обнаженная, отползала подальше от индейцев; она добралась до порога дома и пыталась скрыться внутри. В комнате кто-то колотил по клавишам клавикордов, а за спиной у матери что-то раскачивалось, и я разглядел, что это стрела.
Индейцы, видать, решили, что ей нечего делать в доме, и принялись стрелять в нее из луков. Она продолжала ползти. Наконец один из индейцев подошел к ней, поставил ногу ей на спину, прижав к земле. Ухватил ее за волосы, сильно потянул, приподнимая голову, и вытащил свой длинный нож. С того момента как я пришел в себя, мать не издала ни звука, даже когда стрелы одна за другой вонзались в ее тело, но тут она закричала. И я увидел, как другой индеец приближается к ней с отцовским топором.
Я катался по земле, выл, но тут все во мне застыло. Я не смотрел на мать и не знаю, слышал что-нибудь или нет. Где же Мартин и Лиззи? Неподалеку на земле белело какое-то пятно, и еще одно, и я понял, что это Лиззи – лежит там же, где они ее бросили. Потом, когда нас выволакивали за ворота, я разглядел тело, с отрубленными грудями и разбросанными вокруг кишками. Я понимал, что это моя сестра, но она больше не выглядела как человек.
Я подполз к забору, где лежал мой брат. Он рыдал, потом затихал ненадолго, потом опять рыдал. А я не мог издать ни звука. Собравшись с силами, приподнялся глянуть на мать. Она лежала лицом вниз, вся утыканная стрелами. Индейцы бродили по двору туда-сюда. Брат молча следил за происходящим. Я начал задыхаться, закашлялся, потом меня вырвало. Когда я успокоился, брат сказал: «Я думал, ты умер. Я долго смотрел на тебя».
У меня словно клин застрял между глаз.
– Я сначала думал, отец вот-вот вернется, а теперь понимаю, что мы будем уже за много миль отсюда, прежде чем кто-то узнает, что произошло.
Юный индеец увидел, что мы разговариваем, и пригрозил ножом, но как только он отошел, Мартин сказал:
– Лиззи ранили в живот.
Я понимал, о чем он, и вспомнил, как он сидел там, когда мать отодвигала засов, спокойно сидел, пока я пытался оттащить индейца от порога, сидел с заряженным ружьем, когда индейцы стреляли в нас. Но у меня слишком болела голова, чтобы что-то говорить. В глазах опять потемнело.
– Ты видел, что они сделали с ней и с мамой?
– Краем глаза, – прохрипел я.
Команчи вытаскивали из дома наши вещи, швыряя в кучу посреди двора все, что им было не нужно. Кто-то рубил топором клавикорды. Я надеялся, что индейцы добьют нас или что я опять потеряю сознание. Брат не отводил взгляда от тела сестры. Индейцы выносили стопки книг, и я решил было, что для костра, но они почему-то укладывали книги в седельные сумы. Потом я узнал, что они, оказывается, используют бумагу для своих щитов, плотно набивая ее между двумя слоями бизоньей кожи. Такой щит не всякая пуля пробьет.
Индейцы выволокли во двор перины, вспороли их, пух и перья летели в воздухе, как снежные хлопья. И медленно засыпали тело матери. Нас начали кусать муравьи, но было все равно; брат все так же не отводил взгляда от сестры.
– Не смотри.
– Я так хочу.
* * *
Жар привел меня в чувство. В огромном костре полыхало все, что не пригодилось индейцам, – в основном мебель. Ветка магонии впилась мне в бок. Огонь разгорался все сильнее, в его пламени я заметил наших псов, убитых, и подумал, не бросят ли в костер и нас. Говорили же, что индейцы привязывают людей к фургонам и поджигают. Я оглядел себя, прикидывая, что можно было бы сделать, но, по-честному, было плевать.
– Я могу немножко пошевелить руками, – сообщил я брату.
– Зачем?
– Мы должны быть готовы.
Он промолчал.
– Пить хочешь?
– Конечно, хочу.
Огонь уже бушевал вовсю; мох, которым поросли ветви над нами, задымился. Копоть от сожженного имущества оседала на наших лицах и волосах, в темноте метались искры. Брат весь был засыпан пеплом, как труп давным-давно умершего человека. Я вспомнил лица матери и сестры, когда они сидели рядышком на кровати.
При свете костра индейцы рассматривали отцовские инструменты, а я запоминал все, что они взяли: подковы, молотки, гвозди, обода для бочек, пилу, топор и колун, револьвер, тесло и рубанок; удила, уздечки, седла и стремена; ружье моего брата. Мой «ягербуш» для них оказался слишком тяжелым, и они разломали его, шмякнув об угол дома. Они забрали наши ножи, напильники, вилы и шилья, сверла, пули, формы для отливки пуль, бочонки с порохом, капсюли, волосяные веревки. Наши три молочные коровы прибрели на шум, индейцы пристрелили их из луков. Они были в прекрасном настроении. Горящие поленья они вытаскивали из огня и швыряли внутрь дома, увязывали в узлы последнее барахло, подтягивали подпруги, готовясь уезжать. Из дверей и окон дома повалил дым, а потом кто-то развязал мне руки и рывком поставил на ноги.
Нашу одежду швырнули в костер вместе со всем остальным, а нас нагишом погнали за ворота, прямо в поле, к большой ремуде[15] из индейских пони вперемешку с крупными американскими лошадьми. Индейцы, не обращая на нас внимания, о чем-то лопотали между собой – все умс да угс, это вообще не язык. Было там, конечно, несколько слов, похожих на испанские, да еще одно слово, которое они нам постоянно повторяли, – таибо, таибо то, таибо это. Еще не рассвело, мы были босиком, и я старался не наступить на колючку и чтобы мне не отдавили ногу переминавшиеся в темноте лошади. Все-таки делать хоть что-то было легче, но потом я напомнил себе, что это все равно не имеет смысла.
Нас взгромоздили на лошадей и крепко привязали к их спинам, руки связали впереди. Могло быть хуже, иногда индейцы возили пленных поперек седла, как мешки с мукой. Мой пони все время дергался, ему не нравилось, как я пахну.
Лошади фыркали, топали, индейцы перекрикивались в темноте, и тут мой братец разрыдался, а я жутко разозлился, что он ревет перед индейцами. А потом я и сам заревел. Проехали наше нижнее пастбище – три месяца мы выкорчевывали здесь пни и кустарник – и ореховую рощу, которую я присмотрел для себя. Я подумал о людях, которые выжили нас из Бастропа, называли мою мать черномазой и отсудили наш участок. Когда я убью всех индейцев, вернусь и убью всех новых поселенцев; я сожгу их город до основания. Сначала я надеялся, что появится отец, а потом мне стало стыдно за эти надежды.
О проекте
О подписке
Другие проекты