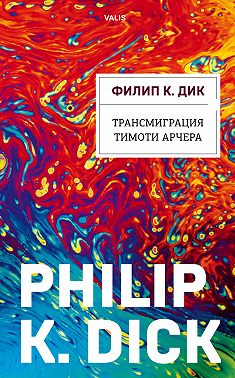Под конец жизни ФКД развил в себе навык настолько гипнотического письма, что смог на сутки намертво приковать моё внимание к роману, состоящему практически из одних диалогов, с минимумом действий, с максимумом саморефлексии главной героини. Синопсис как у дамского бестселлера, а получился онтологический трактат, увлекающий, словно какой-то адовый триллер про андронный коллайдер. А трактат, в общем-то, о самом простом в жизни, только людям, как всегда, очень сложно друг с другом говорить о самом простом. При этом многочисленные, бесконечные диалоги героев «Трансмиграции» напрямую отражают то, из чего в своё время возникла философия и теология – это споры об истине, споры ученика с учителем. Споры о существовании божественного.
Валис , насколько помню, предельно некинематографичен, он параноидален и состоит в основном из самокопаний героев и их топтания на месте в прямом и переносном смысле. Всевышнее вторжение немного сумбурно, бедно на идеи и действия и во многом эксплуатирует визуальную часть его предыдущих «фантастических» романов о будущем. А вот из «Трансмиграции» получился бы шикарный фильм, построенный на великолепно интонированных диалогах, и для него не нужно было бы строить фанерные космические корабли и городить 3D-огороды: действие предельно реалистично и зависит только от актёрского умения изобразить осмысленный диалог – навык, всё реже и реже встречающийся у звёзд кинематографа в наши дни. Калифорния, несколько лет до убийства Леннона и несколько дней после. При этом сюжет «Трансмиграции» повторяет реальную, истерично раздутую СМИ, историю епископа Джеймса Пайка, друга Филипа Дика. Но Дик, конечно, вложил в неё свои собственные сокровенные смыслы, поэтому нечестно было бы называть это биографией или посвящением (епископ Пайк также выведен героем в романе Доктороу Град божий ).
В своей лекции 1948 года «Сюрреалистическая религия» Жорж Батай обозначил странный, сугубо современный духовный объект – «миф как отсутствие», он констатировал отсутствие мифа как такового в современной жизни: «Если мы просто в видах здравомыслия скажем, что для современного человека характерна жажда мифа, и прибавим, что для него также характерно сознание невозможности достичь состояния, когда можно было бы создать настоящий миф, то тем самым мы охарактеризовали особого рода миф, а именно отсутствие мифа». Несколько раньше Ницше оповестил цивилизованный мир о смерти бога. С отсутствием мифа меж человеческим «я» и его бессознательным разверзлась некоторая пропасть. Карл Юнг видел в этом причину внутренней раздвоенности, приводящей к неврозам (здесь самое время сослаться на теорию Джулиана Джейнса о двухпалатном разуме). В 1936 Батай в рамках исследования решил худо-бедно создать свой новый миф и для этого обратился к художнику Андре Массону с просьбой: «Нарисуй мне безглавого бога – остальное найдешь сам». Голова у бога на рисунке Массона как-то сама собой расположилась на месте гениталий (скрывая их), в виде мертвого черепа. А что делать с руками? Автоматически получилось так, что в одной руке (левой) бог держит кинжал, а в другой сжимает горящее сердце. Французские переводы горьковской «Старухи Изергиль» начали появляться с 1906 года, что не исключает знакомства Батая или Массона с Данко с пылающим сердцем в руке. Так появился Ацефал («безголовый»). Позже Батай не отождествлял этот образ с богом: «Он не человек. Но он и не бог. Он не я, а более я, чем я: его живот – это лабиринт, где он сам заблудился, где я блуждаю вместе с ним и в котором я узнаю себя, оказываясь им, то есть монстром».
Клиническая картина «Трансмиграции Тимоти Арчера» видится мне полностью завязанной на батаевских идее отсутствия мифа и псевдомифе о безголовом Ацефале. Епископ Арчер теряет веру – считай, остаётся без головы, отказывается от разумных причин своего существования - и в какой-то момент начинает из последних сил цепляться за некий гностический псевдомиф, который, по сути, должен помочь ему выжить и вновь обрести веру. Ради этого он номинально готов и сам себе вырезать сердце, и принести в жертву близких. Только вот нужно ли было Арчеру дёргаться? Об этом, по сути, финал романа, в котором Филип Дик в своей лучшей мозгокрушащей традиции делает сложный ход:
…Была одна специфическая проблема, которую я не мог понять. Она была связана с Кантом и его онтологическими категориями, посредством которых человеческий разум систематизирует опыт. <…> И пока я шёл, вдруг понял, что сам создаю, в самом настоящем смысле, мир, который чувствую. Я одновременно создаю мир и постигаю его. Пока я шёл, меня вдруг, как гром среди ясного неба, осенила правильная формулировка этого. Минуту назад у меня её не было, а в следующую — уже была. Я стремился к этому разрешению на протяжении нескольких лет… До этого я читал Юма, а затем в сочинениях Канта нашел ответ на критику Юма причинно-следственного отношения — и вот теперь, неожиданно, у меня был ответ, да еще правильно оформленный ответ Канту. <…> На той прогулке, вне своей квартиры, где у меня не было ни ручки, ни бумаги, я добился постижения концептуально упорядоченного мира, мира, упорядоченного не во времени и пространстве и посредством причинной связи, но мира как идеи, представленной великим разумом — точно так же, как наши человеческие умы сохраняют воспоминания. Я ухватил впечатление о мире не в собственном переложении — временем, пространством и причинной связью, — но как он устроен в себе, кантовской «вещью-в-себе».
Дик приводит в романе множество цитат, библейских, из английской поэзии, но в одном месте вдруг ограничивается лишь парой упоминаний о стихотворении, что в его чутком параноидальном космосе прямо-таки вопит: ТУТ ЧТО-ТО СПРЯТАНО, ПРОЧТИ, НАЙДИ. Вот оно, перевод Алекса Грибанова https://www.stihi.ru/2011/01/24/9222
Д. Г. Лоуренс «Змей»
Д. Г. Лоуренс «Змей»
Мы с ним встретились у меня в саду.
Было жарко, и я в пижаме спустился к воде,
Но там был он.
У моей воды в странно пахнущей тени цератонии,
Куда я явился с кувшином,
Я должен был ждать, стоять и ждать, потому что он пришел
до меня.
Он выполз из сумрачной трещины в глинобитной стене,
И, обхватив своим мягким желто-коричневым брюхом край
каменного корыта,
Опустив шею на каменистое дно,
Пил из лужицы чистой воды, накапавшей из крана,
Втягивая воду своим жестким ртом,
Медленно пил, заполняя водой свое длинное мягкое тело
В молчании.
В этот раз я пришел к моей воде не первым
И должен был подождать.
Он поднял голову от воды, как делают пьющие животные,
Бросил на меня ничего не выражающий взгляд,
Выбросил на мгновение свой раздвоенный язык, задумался
И наклонился, чтобы попить еще немного,
Землисто-коричневый, землисто-золотой, из горячих
земных глубин,
В сицилийском июле, с Этной, курящейся на горизонте.
Голос моего знания сказал мне,
Что его нужно убить,
Потому что в этой стране черные змеи безвредны, а золотистые
ядовиты.
Голос во мне сказал: Если ты мужчина,
Ты должен взять палку и одним ударом покончить с ним.
Но, должен признаться, он понравился мне,
Я был рад, что он пришел как гость попить у меня воды,
И удалиться в спокойствии, в мире, не благодаря,
В горячие глубины этой земли.
Так что же, я трус, что не смею убить его?
Это безумие, что мне хочется поговорить с ним?
Это унижение чувствовать, что мне оказана честь?
А я чувствовал так.
Но этот голос:
Ты убил бы его, если бы не боялся!
Я и в самом деле боялся, очень боялся,
И тем более чувствовал себя польщенным,
Что он пришел искать моего гостеприимства
Из неведомых земных глубин.
Теперь он напился,
И поднял голову, сонный после утоления жажды,
Выбросил черный язычок, раздвоенный лоскуток ночи,
Как будто облизав губы,
Безмятежно огляделся вокруг, как бог,
А потом, медленно повернув голову,
Медленно, очень медленно, словно в глубоком сне,
Заскользил, огибая неровности телом, к стене
И начал подниматься по ней.
И вот, когда его голова скрылась в черной дыре,
Когда он проник туда и стал ускользать все глубже,
Какой-то ужас, протест против его ускользанья,
Против его исчезновения в черноте, спокойного ухода во тьму
Вдруг завладел мной.
Я оглянулся, поставил наземь кувшин,
Схватил попавшееся на глаза полено
И бросил в него.
Не думаю, чтобы я попал,
Но вдруг часть его тела, остававшаяся снаружи, задергалась
в утратившей достоинство торопливости
И, мелькнув молнией, исчезла
В черной дыре, в трещине, уходящей в землю,
А я в ярком свете дня смотрел вслед как зачарованный.
Я сразу же пожалел об этом.
Какой жалкий, пошлый, постыдный поступок!
Я презирал и себя, и голос человеческого знания, дававший мне
советы.
Я вспомнил об альбатросе,
Мне так хотелось, чтобы он вернулся, мой змей.
Он казался мне королем в изгнании,
Утратившим корону, скрывшимся в подземном мире,
Но он должен быть коронован снова.
Я упустил случай, давший мне встречу с одним из владык
Жизни,
И мне есть теперь что искупать:
Мое ничтожество.