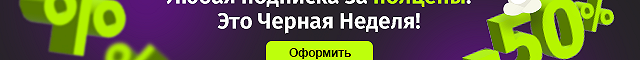
Глава I
Жители Бессарабии в трудах русских авторов XIX – начала ХХ в. К вопросу об этнорегиональных идентичностях
Молдаване в творческом наследии русскоязычных авторов
О митрополите Гаврииле и его времени. П.С. Куницкий, П.П. Свиньин, И.П. Яковенко, Ф.Ф. Вигель, Н.И. Надеждин, И.П. Липранди, А.Ф. Вельтман. Офицеры Генерального штаба – Н.М. Дараган, А.И. Защук, А. Шмидт. Л. С. Берг
Интерес российских авторов к Бессарабии вполне обоснован. Территория была включена в состав России, которая, естественно, нуждалась в описании нового территориального приобретения, с целью его дальнейшей интеграции в состав империи.
Прежде чем перейти к представлению отдельных трудов XIX – начала XX в., необходимо отметить, что авторы этих строк не первыми обращают внимание на данную проблему. Ее комплексному изучению были посвящены серьезные разработки исследователей советского времени: О.С. Лукьянец, К.Ф. Поповича, Е.М. Двойченко-Марковой и ряда других ученых.
Не претендуя на особую новизну, мы все же постараемся представить основные вехи русской молдавианы.
Большое значение на трансформационные процессы в Дунайских княжествах оказала православная церковь, которая выступала мобилизационным механизмом в среде населения Молдавии и Валахии.
Противостояние двух империй – османской и русской – представляло собой еще и противостояние двух религий. В этом отношении Россия с ее православными традициями была значительно ближе к единоверческому населению Дунайских княжеств. Российский протекторат над Молдавией и Валахией в ходе русско-османских войн в начале XIX в. не мог не отражаться на внешней церковной политике.
О митрополите Гаврииле и его времени. Яркой фигурой, к которой приковано внимание уже многих поколений исследователей, является митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони). Он был славен своим служением православной вере, положив свою жизнь на ее укрепление.
Период греческого фанариотства привел к распространению греческого влияния и на экзархат.
По результатам Ясского мира митрополит Гавриил был возведен на вновь созданную Бендерскую и Аккерманскую кафедру. Это был внешнедипломатический ход России на балканском направлении по усилению своего влияния через институт православной церкви, которая в тот период представляла серьезную, организованную и, самое главное, многочисленную силу1, поэтому попытка борьбы за контроль над церковью стала отдельной страницей в истории укрепления российского влияния в регионе. Это дало основание одним исследователям причислять митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) к агентам русского влияния и адептам русификаторской политики России2, а другим – именовать его духовным отцом молдавского народа3, что, кстати, на взгляд авторов данных очерков, не противоречит общей динамике процесса выстраивания молдавской идентичности, которая последние два столетия развивалась в условиях тесного взаимодействия с русской культурой.
Став в 1792 г. экзархом Молдавии и Валахии, Бэнулеску-Бодони столкнулся с противостоянием со стороны греческого духовенства, которое пользовалось покровительством соэтников-фанариотов и опиралось на поддержку Константинопольского патриархата, составной частью которого была Молдавская церковь еще с XIV в.
Константинопольский патриарх Неофит не утвердил митрополита Гавриила в должности. Султан тоже желал иметь более сговорчивого и не пророссийски настроенного церковного управленца. Но Бэнулеску-Бодони проявил принципиальность и не отказался от кафедры. В результате это привело к его аресту и отправке в Константинополь. Только вмешательство России позволило освободить митрополита и сохранить его жизнь. С греческими монахами Бэнулеску-Бодони продолжал конфликтовать и далее, когда наводил порядок в монастырях, приписанных к заграничным греческим монастырям (такие обители именовались «преклоненными»). На него сыпались жалобы, но уже в адрес верховного правителя России, которые, впрочем, не достигли своего результата4.
21 августа 1813 г., спустя год после присоединения к России бессарабских земель, была образована Кишиневско-Хотинская епархия, которую возглавил митрополит Гавриил (Бэнулеску-Бодони), до этого буду-чи экзархом Молдавии, Валахии и Бессарабии. Созданная епархия включала в себя и приходы, расположенные на левобережье Днестра, а также территории Одесчины, включая сам город, и Херсонщины.
С именем митрополита Гавриила связан процесс формирования Бессарабской митрополии в составе Московского патриархата. Он же принял активное участие в просветительской деятельности, способствуя отрытию в Бессарабии духовной семинарии.
У митрополита Гавриила была целая плеяда достойных учеников. Полученное им образование в Греции принесло свои плоды в процессе его дальнейшего церковного служения. Он является основателем эллинистической религиозной школы. Его учениками были мастера русской словесности И.И. Мартынов, Н.И. Гнедыч.
П.С. Куницкий. Одним из соратников митрополита Гавриила являлся Петр Семенович Куницкий5, помогавший ему в становлении первого учебного заведения Бессарабии – духовной семинарии. С ним митрополит взаимодействовал еще во времена его руководства Екатеринославской губернией6.
П.С. Куницкий вызывал и продолжает вызывать научный интерес среди исследователей Молдовы7, Украины8, России9. Он одним из первых остановился на описании местного населения, прежде всего уделив внимание молдаванам, обратив внимание на полиэтнический состав населения: «…Но кроме Молдаван есть и других наций (так в тексте. – Прим. авт.), выгодами земли или другими случаями сюда завлеченных, а именно есть: Великороссияне, Малороссияне, Болгаре, Греки, Армяне, П, ыгане и Жиды10. Великороссияне, Малороссияне занимаются большею частию хлебопашеством и скотоводством; а Греки, Армяне и Жиды торговлею, П^ыгане же тем, что господа их делать заставляют»11.
В ходе описания молдаван П.С. Куницкий кратко остановился на их этнической истории «по их словесному преданию», отметив связь их предков с римскими легионерами и высланными из Италии преступниками. Сегодня подобное утверждение выглядит по меньшей мере как фрагмент, вырванный из сложного контекста этнической истории молдавского народа и касающийся времени формирования этнической общности волохов/влахов – общих предков восточнороманских народов.
Описывавший, в числе первых, Бессарабию и ее население Петр Куницкий обратил внимание на лояльность местного населения, приверженность основной его массы к «христианской восточной вере без всякой отмены и расколу»12.
Автор обратил внимание на благоприятные климатические характеристики края, подчеркнул плодородие земли и возможности получения хороших сельскохозяйственных урожаев. Дал оценку городам и «видам промышленности», прежде всего сельскохозяйственной и перерабатывающей.
Возвращаясь к характеристике этнического большинства края – молдаван, П.С. Куницкий озвучил важное наблюдение, которое необходимо привести полностью: «Обыкновенно попрекают молдаван леностию в земледелии и вообще по части хозяйственной, но причины таковой недеятельности их и нерадения к благоприобретению надобно искать в обстоятельствах. Во-первых, известно, что Молдавия часто опустошалась набегами Татар, причем жители не только лишались всех своих хозяйственных заведений, но едва могли спасать жизнь свою, укрываясь в горах и лесах и убегая в чужие край. Во-вторых, Молдавия не редко бывала Театром войны, каковые обстоятельства также не улучшают состояние жителей и не ободряют к трудолюбию, но раззоряют и в уныние приводят. В-третьих, наконец, здешние жители и в самое мирное время не были свободны пользоваться плодами трудов своих надлежащим образом, ибо приезжавшие из Турции купцы под именем казенных подрядчиков для покупки хлеба и скота привозили фирманы, или указы, от Порты с таксою: что почему платить, хозяин не имел права сказать, что ему не сходно по таковой цене продавать, или же что не имеет на продажу, когда имел, ибо закупщики чрез своих фактаров заблаговременно уже знали, что у кого есть, а Арноуты от Господаря даваемые, для содействия закупщикам, понуждали жителей и не хотящих к продаже с поставкою в Галацы или в другой портовый город, каковая поставка не редко стоила продавцам дороже той цены, какую они получали за свои продукты, насильственно проданные, а иногда и последних волов и самой жизни. Сии обстоятельства отнимали у Молдаван охоту к хозяйственности и делали их неприлежными к хлебопашеству, а наипаче к посеву пшеницы. Обеспечение в собственности и свободное распоряжение плодами трудов своих сделают Молдаван хозяйливыми. Переселившиеся издавна в Россию доказали то собою на опыте, сделавшись прилежными и хорошими хозяевами»13.
Немаловажное наблюдение П.С. Куницкого косвенно поясняет дополнительную причину предпочтения молдаванами проживания в сельской местности и создания исторических условий для расселения торговых и ремесленных народов. Он, в частности, подчеркивал: «…Даже за некоторой стыд почитается быть ремесленником или художником. Пахарь или пастух в большем уважении, нежели всякой художник. Почему необходимость ремесленников заменяют иностранцы как то: Немцы, Поляки, Армяне и Жиды, у которых тамо торговля находится в руках»14.
Специальное внимание уделено было им описанию «прежних прав и законов». В контексте не раз затрагивавшегося в научной литературе вопроса об особом статусе Бессарабии, который дискутировался после ее присоединения к России, понятно внимание Петра Куницкого к этой стороне культуры повседневности. Давая общую характеристику состоянию прав и законов Молдавии, автор подчеркивает, что они, «как и политическое состояние ее, зыбки и не тверды». Продолжая свои рассуждения, священнослужитель констатировал: «Они основываются на некоторых определениях владетельных Князей, хрисовами называемых, в разные времена по разными случаям изданных, так же и на Юстиниановых законах, которые однако Молдавский Диван с некоторого времени в таких только случаях употребляет, когда они подкрепляют ту сторону, которую Князь или сильнейшие бояре оправдать хотят; в противном случае называют их старыми и с настоящими обстоятельствами и обычаями земли не сходными. Вообще же можно сказать, что воля Султанов была законом для Молдавских Князей, воля Князей была законом для Дивана, имеющего некоторую тень национального Правления, затем и воля Диванских бояр была обыкновенно законом для земских исправников и судей, а сии, исполняя волю и прихоти верховных своих начальников, не страшились угнетать кого хотели, так что наконец право сильного соделалось правом и обычаем земли»15.
Петр Семенович выражает твердую уверенность в том, что «обыватели сего края, освободившись от таковых угнетений присоединением к России, не только не пожалеют о правительстве, под каковым они доселе были, но еще с великою радостию примут те права и законы, какие им даны будут»16. Одновременно он обращает внимание на необходимость соблюдения статус-кво сложившихся в молдавском обществе интересов: «…Одного только боятся обыватели, чем их не благомыслящие устрашают, а именно: Бояре и прочие чиновники, чтобы не лишили их права иметь Скутельников и владеть своими наследственными или купленными цыганами по прежнему; а поселяне, чтоб помещики не присвоили себе права записывать поселян, живущих на их вотчинах в крестьяне и обременять их работами или податьми выше той меры, какова в древних постановлениях или хрисовах Князей означена. Она состоит в том, что поселянин должен работать тому помещику, на чьей земле живет, 12 дней в году, да сверх того давать из всех своих годовых продуктов, из помещичей земли получаемых, десятую часть, и помещик, получив даваемое за землю, не имел уже более никакого права на распоряжение семейством или собственностию поселянина, но за то и помещик не обязан был отвечать ни за какие казенные подати и недоимки с поселян, живущих на его земле, но отвечали самы поселяне, как казенные обыватели, состоя в распоряжении земского начальства. В прочем Боярам и другим чиновникам давались Скутельники, т. е. ранговые служители из поселян, как некогда было и в Малороссии, судя сколько кому по чину следовало. Сии ранговые, Скутельниками называемые поселяне, будучи увольняемы от казенных повинностей, обязаны были за то работать или платить тому, кому отпущены в ранговые, но они прежде вступления в ранговую обязанность договаривались с теми Боярами, кои имели право на известное число ранговых поселян, сколько платить или работать в год за то, что ранговая обязанность освобождала их от казенных повинностей. Впрочем они, отработав или заплатив Боярину следуемое по договору, почитались свободными наравне с прочими неранговыми поселянами. Совершенными же крестьянами почитались только одни Цыгане и состоят в полном распоряжении тех владельцов, коим они по документам принадлежат. Надежда, что таковое отношение между помещиков и поселян будет утверждено и соблюдаемо и впредь, удерживает Молдаван и Болгар на своих местах; противная же мысль, внушаемая недоброхотами, увлекла многия семейства за Прут и Дунай»17. Одной из причин недоверия среди населения Бессарабии к русскому присутствию было опасение распространения в крае крепостничества18.
В контексте интереса властей России к Дунайским княжествам и их социально-экономическому состоянию объяснимо внимание П. Куницкого, направленное на освещение социальных слоев молдавского общества19, бытовавших здесь обычаев. Интерес вызывает один немаловажный пассаж, позволяющий представить себе тенденции в формировании общей динамики межэтнических взаимодействий в ходе освоения бессарабских земель, в первой половине XIX в.: «Что касается до обычаев, то сколько здесь наций, столько и обычаев. В прочем все приноравливаются к Молдованским обычаям и их языку в рассуждении превосходства их числа (выделено нами. – Прим. авт.)»20.
Показательны наблюдения П. Куницкого за традицией ношения одежды молдаванами. Одеяние простонародья, по его словам, «похоже на козацкое малороссийское»21. С малороссами усматривал он схожесть и в обычаях.
Любопытны наблюдения над боярством, которое, на время описания, демонстрировало подражание греко-турецким нравам22: «Бояре с некоторого времени начали принаравливаться к Греко-Турецкому наряду и обычаям. Они носят сверх полукафтана, подпоясанного шалью, широкую и долгую епанчу без воротника с долгими широкими рукавами, на конце разрезанными, большие шаравары, желтые сафьянные туфли с таковыми же чулками, называемыми мешты, и большую шапку, зделанную на подобие митры, однако не из какой материи, а из самой мелкой серой овчины с маленьким суконным вершком. Также первого и второго разряда Бояре носят бороду, которая состоит в числе привилегий, боярскому достоинству принадлежащих»23.
Наблюдения П.С. Куницкого дополняют сведения из записок Ф.Ф. Вигеля, который, говоря о бессарабской аристократии, отмечал «сходство между образом жизни богатейших молдаван и наших предков, к стыду нашему, разительное; и потому Кишинев еще более заслуживает внимания русских. Название бояр, длинная их одежда, длинные бороды, высокие шапки, богатые меха, коими они покрываются, их невежество, грубость, все напоминает древних наших царедворцев. В домашнем быту сходство сие еще заметнее: недостаток в самонужнейших предметах для удобства и приятности жизни, низкие комнаты, коих убранство состоит в широких лавках, покрытых коврами; столы, отягощенные множеством невкусных блюд, многочисленная, оборванная и засаленная услуга, между стариками ревность и удаление женщин от всякого участия в общежитии, великолепные наряды сих последних, алмазы, жемчуги, и вместе с тем неопрятность, все как было у нас в старину. Если быть в судебном месте, то легко счесть себя в приказной избе; а деловые бумаги, на молдавском языке с крючками и под титлами писанные, похожи ни дать ни взять на древние столбцы московского архива. Одним словом, все мысленно переносит нас в семнадцатое столетие и дает более чувствовать всю цену просвещения»24.
О проекте
О подписке
