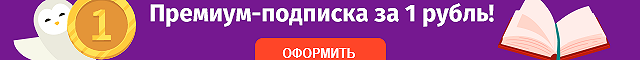
С 1818 (когда Свиньин опубликовал свое «Естественное описание Бессарабской области») по 1828 г. в Бессарабии вводится ограниченная административная автономия. 29 апреля 1818 г. в Кишиневе русский император Александр I обнародовал новый регламент о реорганизации административной системы Бессарабии – «Устав образования Бессарабской области». Документ учитывал специфику местных реалий в организации и деятельности органов управления Бессарабией. Она получила статус административной автономии в составе Российской империи.
Следующий этап в истории обустройства бессарабских вольностей связан с событиями 20-х гг. XIX в. Данное время достаточно хорошо освещено в научной литературе. В этот период произошел целый ряд резонансных событий: восстание геттеристов, бессарабская ссылка А.С. Пушкина, деятельность «Южного общества» декабристов, в том числе в Бессарабии, и их выступление в 1825 г. в столице России (подготовка которого осуществлялась и в Бессарабии), наконец, начало новой войны между Османской державой и Российской империей в 1828–1829 гг., закончившейся Андрианопольским миром.
Начиная с 1828 г. в Бессарабию была внедрена общероссийская губернская модель управления, под нее выстраивались налоговая и судейская системы. Однако частично сохранялись нормы прежнего гражданского права. Регламентировалось использование молдавского языка; по сути, все делопроизводство переводилось на русский язык.
И.П. Яковенко. В 1828 г. увидели свет две работы И.П. Яковенко и А.Ф. Вельтмана.
Перу Игнатия Павловича Яковенко, писателя, журналиста и географа того времени, принадлежит труд «Нынешнее состояние турецких княжеств Молдавии и Валахии и российской Бессарабской области»84. Сразу следует оговориться, что освещение запрутской Молдовы и еще более Валахии представлено с явно большими подробностями. Бессарабии, по сути, внимания не уделяется. Можно предположить, что подобный подход объясняется интересом России, транслируемым через творчество путешественника, к Дунайским княжествам в связи с незавершенными амбициями России по распространению своего влияния на балканском направлении (Бессарабия к тому времени была уже в составе России).
Опубликованные в книге наблюдения осуществлены в 1820 г. В ней изложено историческое, статистическое, географическое, этнографическое описание названных территорий в виде писем. Автор предоставил читателю информацию о правителях Молдавии и Валахии, остановился на освещении социальной иерархии местного общества, сведений о воеводах и боярстве Молдовы и Валахии, о природно-географических, сельскохозяйственных характеристиках Валахии и др.
Мы не будем останавливаться на полном рассмотрении названного труда И. Яковенко. Сфокусируем внимание только на отдельных аспектах, касающихся нашего разговора.
Как и П.П. Свиньин, И.П. Яковенко в первом своем письме представляет информацию о континуитете местного населения: «Разрушительнейшее опустошение мест, прилежащих к Дунаю в Молдавии и частию в Валахии, произведено татарами в 1228 году после Р. X., и варварская жестокость их обратила в бегство значительную часть жителей, из коих одни переправились на правую сторону Дуная, в Болгарию, а другие искали спасения своего в горах Карпатских, которые и способствовали более всего сохранению национального их существования»85. Характеризуя население Валахии, он подчеркнул: «Но самые природные жители и теперь еще называют себя Ромунами и Княжество именуют не Валахиею, но Цара Романяска, подтверждая тем происхождение свое от Римлян»86.
Следует отметить, что И. Яковенко достаточно серьезно углубился в политическую историю княжеств, обращая внимание на неоднократные попытки молдавских и мунтянских князей заручиться поддержкой России против Порты, начиная со времен Ивана Грозного87, он справедливо подчеркивал мысль о том, что Молдавия покорилась Османской империи гораздо позже Валахии, – лишь после смерти Стефана Великого88.
Достаточно подробно останавливаясь на описании функций боярства, автор приходит к выводу, что «порядок старшинства и других Бояр в Молдавии расположен также несколько иначе, нежели в Валахии»89. И далее уточняет: «Каминарь, пахарник, сардарь, стольник, медельничерь, ключарь, слуджарь, пишарь, шатрарь – все сии чиновники хотя и расположены в старшинстве иначе, нежели бояре Валахские, но обязанности их те же самые, как и в Валахии..»90.
Автор отмечает, что господари «в прежнее время»91 «не бывши обеспеченными, что останутся князьями на долгое время, изобретали всякие способы к увеличению доходов своих, подвергали народ чрезвычайным налогам <…>, угнетения происходили до такой степени, что бедные обыватели не находили другого средства для спасения своего, как искать защиты у Всеавгустейших монархов России, которые, даровав им человеколюбивое покровительство, оказывали всегда, при всяком случае, искреннее участие в судьбе их <…>. Россия не щадила ничего для доставления спокойствия и благоденствия единоверному народу. Она употребляла всегда особенную заботливость, чтобы сколь можно положить преграду неумеренной жадности господарей, чтобы оставить их бессменными на целые семь лет»92. Правда, как констатирует он далее, это не помогло, ибо были придуманы новые схемы, направленные на обогащение первых государственных лиц93.
И.П. Яковенко объединяет в единую нацию валахов и молдаван, указывая на наличие в их языке многочисленных славянизмов94.
Тут тоже необходимо определенное пояснение. Многие современные авторы обращают внимание на общность культуры молдаван и румын, подтверждая это в том числе русскими источниками XIX – начала XX в.95 Россия в первой половине XIX в. продолжала претендовать на патронирование Дунайских княжеств. Подчеркивание авторами влияния римских колонистов на население древней Дакии, а также латинизации языка с использованием славянизмов – достаточно распространенная схема подачи краткой информации о населении Дунайских княжеств в русской литературе того времени.
Ф.Ф. Вигель. В данном контексте показательно звучат рассуждения Ф.Ф. Вигеля96 о Бессарабии и Дунайских княжествах: «Есть люди, которые опасаются всякой общей перемены в Бессарабии и находят свою пользу в расстроенном ее теперешнем положении, – писал Вигель, в начале 20-х гг. XIX в., – они утверждают, что введение здесь совершенно русских обычаев и законов может иметь вредные последствия. Если наше правительство имеет тайное намерение присоединить некогда к России Молдавское и Валахское княжества, которые столько раз уже нашими войсками были заняты, то должно опасаться, по мнению их, чтобы не были мы встречены более как неприятели, нежели как спасатели. Напрасно! Когда до молдаван Запрутских дойдет слух о спокойствии и безопасности, которыми пользоваться у нас будут единоземцы их, когда собственность будет здесь ограждаема законами, то Молдавия, может быть, опустеет; тысячи начнут перебегать к нам и станут населять обнаженные пустыни Буджака. Конечно, бояре еще более нас не полюбят и будут стараться вредить нам, но что могут они сделать? В искусстве наших генералов, в храбрости наших солдат скорее найдем мы вернейший залог наших будущих завоеваний, чем в содействии малодушных и бессильных соседов наших, обеспеченных и подавленных турецким игом. Но нет, у нас и не думают о завоеваниях; мы, видно, устали от побед!»97.
Тут снова необходимо обратить внимание на роль Российской империи в этнообъединительных процессах в Дунайских княжествах. По сути, под руководством П.Д. Киселева, куратора администрации Валахии и Молдавии, после Андрианопольского мира 1929 г. начался активный процесс экономического развития княжеств, прежде всего посредством их освобождения от османского данничества. Подобная политика привела к тому, что в городах стали зарождаться зачатки капиталистических отношений. В этот период начинается популяризация румынского языка – заметим, с тенденцией выдавливания из него славянизмов со стороны интеллектуалов Валахии98.
Н.И. Надеждин. Путешествовавший в 1839 г. по Бессарабии один из основателей русской этнографической науки Н.И. Надеждин оставил подробное описание своей экспедиции. В нем присутствует описание Кишинева, который стал менять свой облик при военном губернаторе П.И. Федорове99. «С тех пор началось перерождение Кишинева; и теперь, в каких-нибудь пять лет никто не узнает старого молдаванского Кишенау.
Каким волшебным жезлом производится это превращение? Талисман заключается в соревновании, которое весьма искусно пробуждено в самых жителях города. Они строятся добровольно, поощряемые выгодами, которые предварительно обеспечиваются сооружаемым им домам. Это расшевелило даже евреев, которым принадлежит теперь много прекрасных и великолепных зданий. Только молдаване мало еще принимают участия в общем рвении: они продолжают довольствоваться своими безобразными “касами” (домами. – Прим. авт.), гармонирующими с их полуазиатским костюмом и полумусульманскими привычками.
Я не буду распространяться о наружности города, чтобы тем свободнее предаться впечатлениям, возбуждаемым жизнью его пестрого населения. В Кишиневе считается теперь больше сорока тысяч жителей. Все города здешнего края отличаются смешением языков и племен. Но тут мы увидели в первый раз особую стихию румунскую, во всей роскоши ее национальной самообразности.
Как нарочно для нас случился праздничный день, знаменующийся в Кишиневе общенародными гуляньями в прекрасно устроенном публичном саду. Добрый хозяин города имел любезную благосклонность сам повести нас туда. Гулянье только что начиналось. Середи сада, на широкой площадке, образуемой перекрестком аллей, гремела полковая музыка. Народ приливал густыми волнами и частью помещался кругом площадки, частью рассыпался по аллеям.
Еще многие из румунов, особенно старики, сохранили свой народный живописный костюм. Вместе с ним они, кажется, сохраняют и глубокое предубеждение против всего, отзывающегося новизной русско-европейской цивилизации. Эти кореняки, представители упорного румунского национализма, сидели безмолвно или прохаживались медленно, погруженные в самих себя. Вероятно, они уносились мыслью в те блаженные времена, когда Бессарабия оглашалась пронзительными звуками жидовских цимбал или бешеным визгом цыганского табора. О вкусах спорить нельзя: но заметно уже, что новое поколение решительно изменяет своим отцам. Почти вся аристократическая молодость одевается по-европейски, имеет или, по крайней мере, показывает европейские потребности и прихоти. Первый знак к отступлению от старины, разумеется, и здесь, как везде, подается прекрасною половиною человеческого рода. Вы уже не различите теперь по платью румунских кукониц и кукон: богатейшие из них разубраны по парижским или, по крайней мере, венским картинкам мод. Только резкая печать полуазиатской физиономии изобличает их недавнее усыновление Европе»100.
Надеждин часто «молдаван» именует «румынами». Молдаване у него скорее регионализм, при этом переселенцев из «соседних Подолии и Украины» он, по тогдашним нормам, именует «русскими»101.
На том этапе Россия видела в числе перспектив реализации балканского вопроса объединение Дунайских княжеств, но под протекторатом Российской империи, о чем открыто заявлял Николай I. Забегая чуть вперед, приведем несколько рассуждений российского императора, как нам представляется, важных: «Дунайские княжества (Молдавия, Румыния) образуют государство, под моим покровительством, и такое положение могло бы продолжаться. Сербия могла бы получить такую же форму правления. То же можно сказать о Болгарии: я не вижу причин, мешающих этой стране образовать самостоятельное государство»102. Как заметил внимательный читатель, русский император рассуждал о перспективах создания независимых от Турции государств, в том числе молдавско-волошского под его протекторатом. То есть мысли ни о каком присоединении названных территорий к России он не рассматривал. В этом контексте целесообразно привести рассуждения русского императора в 1853 г. из другого источника. «Слова царя адресованы Н.Н. Муравьеву (Карсскому). “Я уже два раза мог овладеть Константинополем и Турцией, – говорил Николай Павлович Муравьеву, – в первый раз – после перехода через Балканы, а второй – ныне. Какие выгоды от завоевания Турции произошли бы для нашей матушки-то России, то есть для губерний – Ярославской, Московской, Владимирской и прочих? Мне и Польши довольно. Мне выгодно держать Турцию в том слабом состоянии, в каком она ныне находится”103».
Возвращаясь к воспоминаниям Вигеля, целесообразно вспомнить замечания о них И.П. Липранди104, который охарактеризовал восприятие Филиппа Филипповича как очень негативное со стороны богатейших родов Молдовы.
Вигель обладал резким стилем изложения и имел привычку давать критические характеристики тем, о ком писал, в том числе представителям молдавской элиты. Липранди пишет: «Рукопись, сделавшись известной, не могла не возбудить против него злобы, особенно лиц, как например, Рознованов, Стурдз, князей Гиков, Морузи, Суццо и других знаменитых бояр Княжеств, которые удалились временно из отечества во время гетерии, не принимали участия в управлении…»105.
Что ж, в приведенном примере с Вигелем, помимо картины непростых взаимоотношений с местной элитой, подспудно демонстрируется расхождение интересов русского наместничества и местной элиты.
Однако утверждать, что Ф.Ф. Вигель не видел в людях ничего хорошего, тоже было бы несправедливо. Вот, например, как он характеризовал Александра Стурдзу (сына Скарлата Стурдзы) в своих «Записках»: «Изобразить самого Александра Стурдзу не безделица: в этом человеке было такое смешение разнородных элементов, такое иногда противоречие в мнениях, такая выспренность в уме; при мелочных расчетах в действиях, он так весь был полон истинно-христианских правил и глубокого, неумолимого злопамятства, осуждаемого нашею верою, что прежде чем начертать его образ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характер. Грек по матери, он более сестры принимал участие в судьбе эллинов; молдаван по отцу, он искренно любил своих соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам. Едва не сделавшись в Германии жертвою преданности своей к законным престолам, он обожал ее философию и женился на немке. Желая светильник наук возжечь на Востоке, он сей священный огонь хотел заимствовать у поврежденной уже в рассудке Европы. Друг порядка и монархических установлений, он мечтал о республике под председательством Каподистрии. Друг свободы, он ненавидел Пушкина за его мнимо-либеральные идеи. Он был все; к сожалению только совсем не русский. Воспитанный в Могилевской губернии, не понимаю, как он мог приобрести запас учености, с которым вступил на дипломатическое поприще; в знании языков древних и новейших мог бы он поспорить с Меццофанти. С 1815 года сделался он известен вместе с покровителем и другом своим, Каподистрией, в 1822-м вместе с ним сошел со сцены (как где-то уже я сказал) и на покое, так же как ныне я, строил историческо-политические воздушные замки.
Мне весьма памятны его беседы со мной; ибо, вследствие их, мнения мои о делах Европы и Востока начали изменяться. Он не скрывал желания своего видеть Молдовлахию особым царством, с присоединением к ней Бессарабии, Буковины и Трансильвании. Освобождением одной Греции, по мнению его, дело на Востоке не должно было кончиться».
В других своих воспоминаниях о Пушкине Липранди дает некоторое пояснение, говоря о Вигеле: «…Он писал об этом крае (Бессарабии. – Прим. авт.) под влиянием неудовольствия за неудовлетворение безграничного своего самолюбия, и в этом случае прибегает к приписанию себе всего, что было сделано лучшего в области»106.
И.П. Липранди. Раз уж речь зашла о воспоминаниях Липранди, нельзя обойти стороной его характеристику высшего общества, которая представлена в его воспоминаниях о пребывании в крае А.С. Пушкина. В данном контексте вызывает интерес описание Липранди молдавской элиты. По его словам, «кишиневское общество слагалось из трех “довольно резких отделов”». В первом он называет «мир чиновный», во втором им выделяются молдавские бояре, состоящие из находящихся на службе и зажиточных помещиков, и, наконец, третий, «самый замечательный» отдел – из людей военных107
О проекте
О подписке
