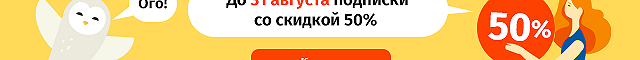
Глава 2. Научные горизонты расширяются
Что касается Натули, то она продолжала плодотворно трудиться в Отделе Кореи и Монголии Института востоковедения АН СССР. Основное внимание по-прежнему уделяла исследованиям в области корееведения. Работала над книгой, посвященной внешнеэкономической политике КНДР, на базе своей кандидатской диссертации. К тому времени тему рассекретили и диссертационные материалы можно было использовать в открытой публикации. В 1991 году увидела свет коллективная монография «Корея и Россия. Навстречу XXI столетию», подготовленная под эгидой крупнейшего «мозгового центра» Южной Кореи – Института им. короля Сечжона. В престижный сборник вошли две Наташины главы: «Политика СССР в отношении Южной Кореи при М. Горбачеве» и «Северная Корея и отношения между Сеулом и Москвой» общим объемом 6 печ. л. (ок. 150 с. машинописного текста).
Главы были настолько фундированными, основанными на документах, впервые введенных в научный оборот, и настолько аналитичными, что немедленно привлекли внимание международных научных и журналистских кругов, да и политиков тоже. Эти работы Н.Е. Бажановой повсеместно цитируются на протяжении десятилетий. Так, известный американский журналист, редактор, автор десятков бестселлеров по международным проблемам Дональд Обердорфер в книге «Две Кореи»[2] многократно упоминал Натальины труды, при этом не скупясь на комплименты. Он, в частности, подчеркивал: «Наталья Бажанова, российский эксперт по корейским проблемам, использовав государственные и партийные архивы СССР, подготовила выдающийся научный труд «Северная Корея и отношения по линии Сеул – Москва», который должен стать отправной точкой при анализе событий на Корейском полуострове в 1970–1980-х годах»[3].
Ведущий японский кореевед Харуки Вада, в свою очередь, характеризовал Наташины исследования отношений в рамках треугольника СССР – КНДР – РК как «абсолютно пионерские, в высшей степени глубокие и прозорливые», как «главный источник по изучению современных международных отношений на Дальнем Востоке», как «кладезь уникальной информации по объяснению ви́дения внешнего мира из Москвы»[4].
Японская телекомпания NHK, упорно добивавшаяся Наташиного участия в многосерийном фильме о Корее, в бесчисленных письмах к ней неизменно ссылалась на профессиональное мнение ведущих экспертов мира: Н.Е. Бажанова должна стать главным действующим лицом данного проекта (по ряду причин исследовательница отказалась).
В 1991 году Наташа опубликовала также десять статей по Корейской проблематике, причем девять – в ведущих корейских изданиях. Одна из этих статей – о Корейской войне 1950–1953 гг., основанная на уникальных архивах, – стала «бестселлером» в Южной Корее! Появилась Натулина статья по Корее и в знаменитом востоковедческом журнале «Эйша Сёрвей», издаваемом Калифорнийским университетом, в который пробиться архисложно даже самым маститым ученым[5].
Кроме того, из-под пера моей жены вышло четыре статьи по общеазиатским проблемам (три – в СССР, одна – на Тайване), одна статья – по Китаю (в центральной советской газете «Правда»), две статьи – по советской внешней политике и статья (в двух частях) о деловом климате в Советском Союзе. Эта последняя статья может быть интересной широкому читателю, поэтому помещаю ее здесь.
СПЛОШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЗАГАДОЧНОЙ СТРАНЕ.
ВЗГЛЯД НА СОВЕТСКИЙ РЫНОК ИЗ АЗИИ
(Опубликовано в газете «Известия» 9 и 10 августа 1991 г. C. 5)
Несмотря на благоприятные изменения в Советском Союзе за последние годы – принятие первых стимулирующих деловую активность законов, сокращение числа бюрократических барьеров, появление новых советских партнеров, – иностранный капитал все еще проявляет явную сдержанность на нашем рынке. Это относится в равной степени к предпринимателям Европы, Америки, Азии. О причинах такой пассивности деловые люди довольно откровенно рассказывают своим советским партнерам и знакомым. Наиболее типичные примеры соприкосновения с нашей экономической и политической действительностью бизнесменов из Азии собраны в статье специалиста по странам Дальнего Востока Н.Е. Бажановой.
…Поезд, стартовавший из Пекина, приближается к советской границе. Сосед по купе, сингапурский бизнесмен, с жадным любопытством вглядывается в окно и улыбается. Вот он и добрался до далекой России! Пять минут спустя, однако, благодушное настроение гостя испаряется. Офицер-пограничник после длительного изучения сингапурского паспорта сурово скомандовал его обладателю следовать к выходу. Состав не доехал до перрона с полкилометра, и вот на глазах у всех пассажиров вооруженный конвой повел соседа по шпалам к зданию вокзала. Позднее, во время прогулки, мы видели сингапурца сидящим под охраной у двери комендатуры. А затем ждали его в поезде, отход которого откладывался и откладывался. Вернулся попутчик бледный и дрожащий словно осиновый лист.
Как выяснилось, советское консульство за рубежом, не учтя изменений в местном железнодорожном расписании, проштемпелевало дату въезда в страну днем позднее, чем это произошло фактически. На этой пограничной станции подобное случалось и раньше. И тем не менее к пострадавшему сингапурцу отнеслись как к опасному преступнику.
Пример приведен отнюдь не для того, чтобы заклеймить кого бы то ни было. Он лишь свидетельство значительных различий в нормах человеческих взаимоотношений между нами и внешним миром. Различий, затрудняющих и тормозящих деятельность иностранного бизнеса на советской территории. Ведь суть не в том, что с сингапурцем разбирались пограничники (так оно и должно быть), а в формах и методах разбирательства. «Культурный шок» – подобным образом характеризуют соприкосновение с нашими реалиями многие азиаты. «Шок» начинается на границе, каким бы видом транспорта иностранец ни прибыл в СССР.
Южнокорейского коммивояжера потрясло освещение в аэропорту Шереметьево. Там было такое затемнение, удивлялся он, как при воздушных налетах на Сеул в Корейскую войну 1950–1953 годов. Дальше – больше. В фойе московской гостиницы «Белград» незадачливого иностранца поджидали два дюжих милиционера. Придержав его за фалды костюма, они потребовали пропуск. Потенциальный постоялец пытался сопротивляться, и тогда стражи порядка обнажили резиновые дубинки. В ходе последующего разбирательства милиционеры возмущались. За кордоном, мол, полицейских уважают, а здесь иностранцы что хотят, то и творят.
Южнокореец, в свою очередь, не мог взять в толк происшедшего. «Я посетил более сорока стран, – жаловался он, – и повсюду меня встречали у входа в отель улыбками и поклонами. Здесь же решили «поприветствовать» дубинками».
Недоразумения возникают и на сугубо личном уровне общения. Азиаты не терпят физического контакта. Достаточно похлопать гонконгца или таиландца по плечу, погладить по голове, как под угрозой может оказаться выгодная сделка. Столь же непозволительно не прочитать внимательно полученную визитную карточку, класть ногу на ногу, съедать всю пищу на тарелке, опаздывать. Поосторожнее следует быть с подарками. Если вы, например, преподнесете белые гвоздики китайцу, то он расстроится – в его стране белый цвет символизирует смерть, траур. В то время как в Европе рекомендуется развернуть подарок, в Азии так поступать неприлично.
Этикет, конечно, претерпевает изменения, но где-то в подкорке сознания азиатов старинные традиции продолжают существовать, пусть и в смягченной форме. В Азии любят кланяться, придерживать одной рукой другую при чоканье бокалами и при рукопожатии, молчать при разговоре старших по чину, обращаться к вышестоящим при помощи особых супервежливых оборотов речи. Не очень рационально посылать на деловые переговоры в страны Востока женщину.
Сервис со шваброй наперевес
Культурные различия далеко не главный камень преткновения на пути делового сотрудничества. Посланцев Азии, как и вообще иностранцев, пожалуй, больше обескураживает советский сервис.
Знакомый японец рассказывал, что ему в некотором роде повезло – подвернулся случай, который помог сразу ухватить суть психологии работников нашей сферы обслуживания. Он встал в уличную очередь в винный магазин. Там был перерыв. Женщина моет шваброй пол, похоже, готовится к встрече покупателей. Но вот часы показали 14:00, пора возобновлять торговлю. Этого, однако, не происходит. «Авангард» очереди барабанит по стеклу. Откройте, мол. Барабанят минут пять. Уборщица и ухом не ведет, все пол в порядок приводит. Очередь волнуется и сильнее бьется о стекло, кричит. И тут у женщины сдают нервы. Она распахивает дверь и дубасит шваброй передних очередников. Досталось и японцу, который в результате хорошо усвоил, что для советских тружеников сервиса клиенты – назойливые мухи. Их терпят до определенного предела, затем от них отмахиваются, а если и это не помогает, тогда мух норовят прихлопнуть.
И все же и японец, и другие иностранцы не перестают удивляться. Почему, например, на рынках с них в обязательном порядке взимают двойную плату? Да что там на рынках! Наше государство получает от зарубежных гостей за пользование гостиницами и транспортом по тарифу, в несколько раз превышающему обычный. Гостям объясняют: за границей отели и транспорт очень дорогие, советские люди вынуждены выкладывать за них кругленькие суммы, извольте и вы.
Подобная аргументация выглядит для чужеземцев странной, а условия, в которые их ставят в СССР, воспринимаются как дискриминация. А что если Япония или Сингапур, например, примут в отношении наших командированных и туристов ответные меры? Скажем, запретят покупать тысячи вещей, которые японцы или сингапурцы не могут приобрести в советских магазинах? Введут ограничения на пользование хорошими дорогами, утоление жажды высококачественным пивом, посещение чистых туалетов? Или вообще не позволят что-либо приобретать без томительного ожидания в очередях?
Дело не только в дискриминации, добавляют азиаты, но и в отсутствии элементарной логики. Прекрасно известно, что советские гостиницы, рестораны, поезда и самолеты по качеству сервиса нельзя даже сравнивать с зарубежными. Как же можно брать по 100–200 долларов в сутки за гостиничный номер, в котором проживают тараканы и клопы? Позволительно ли требовать высокую плату в ресторанах, где официанты пьяны и грубы, где в меню почти ничего нет, а в качестве салата подаются объедки? Где на просьбу принести лед метрдотель отвечает, что на дворе лето и откуда же в жару взяться льду?
Предприниматель из Гонконга остановился не так давно в лучшей ведомственной гостинице Москвы. Номер – 200 долларов в сутки. В первый же вечер гость, как он привык это делать повсюду, заказал ужин в номер. Принесли. На следующий вечер опять заказ. Администрация вскипела: один раз сделали уступку, так клиент уже на голову садится! Пусть спускается в ресторан или убирается из отеля! Гостиничное начальство возмущалось так, как будто не ведало, что подача еды в номер не является ни уступкой, ни вообще чем-то экстраординарным.
Не менее суров сервис Аэрофлота. По сообщению южнокорейской газеты, бизнесменам из этой страны пришлось в Хабаровске самолично втаскивать чемоданы в багажный отсек самолета. Так распорядилась стюардесса. А южнокорейцы ведь даже теоретически не представляли, что подобное возможно. Еще одна проблема для иностранцев – утомительные поиски жилья. Очередь на получение помещения от местных властей для них покороче, чем для советских граждан, но 2–3 года ждать все-таки приходится. Даже южнокорейского чиновника, прибывшего в СССР для реализации трехмиллиардного займа, который Сеул предоставил Москве, попросили влиться в ряды ожидавших квартиру.
Сервис, конечно, может измениться в лучшую сторону, если на прилавок выложить доллары. Группа тайваньских бизнесменов к своему удивлению обнаружила, что в любой захудалой московской забегаловке можно чуть ли не ящиками и по бросовой цене закупать из-под полы черную икру. Естественно, при оплате товара в твердой валюте. Доллары, говорят, требуют от иностранцев даже представители ГАИ, устраивающие засады на выпивших водителей в районе популярных московских ресторанов…
Пугало гражданской войны
Пока речь шла о наших культурных особенностях и негодном сервисе, которые усложняют жизнь иностранного предпринимателя. Но настоящий бизнесмен готов с подобными трудностями мириться. Если он чует выгоду, то способен и на гораздо большие подвиги – и по кишащим тиграми джунглям продираться, и сырыми кузнечиками питаться. Главное – конъюнктура рынка. Какова же она в СССР?
Основополагающим условием является политическая стабильность. Если в какой-то стране идет война, ни один солидный банк не согласится кредитовать там сделку, ни одна страховая компания не выдаст на нее полис. Сингапур, Южная Корея, Малайзия и другие государства, добившиеся в последние годы крупных экономических успехов, первым делом постарались стабилизировать внутреннюю ситуацию и убедить в безоблачности своих политических перспектив потенциальных инвесторов. Кое в чем они даже лукавили, пряча изъяны от чужих глаз.
Нам похвастаться в этом смысле нечем. Ежедневно газеты приносят тревожные новости то с армяно-азербайджанской границы, то из Прибалтики, то из Молдовы, Осетии, Таджикистана… «Такого букета противоречий, как в СССР, – заметила одна гонконгская газета, – больше нет нигде. Тут вам и этнические конфликты, и классовая борьба, и идеологические схватки, и национально-освободительное движение, и драка за власть без правил, и экологическое противостояние, и нецивилизованный дележ экономического пирога… И чего еще только в СССР нет!»
Но нашим политическим деятелям, видимо, мало того, что уже есть. С экранов телевизоров они наперебой предрекают еще большие напасти. Вспомним недавние выборы Президента России. Жириновский предупреждал, что если его не изберут, гражданская война неизбежна. Сторонники Ельцина соглашались, что такой печальный исход неминуем, но в случае неизбрания российским лидером Бориса Николаевича. Тема гражданской войны не сходила с уст остальных кандидатов. О ней твердят теперь столь много и смачно, как еще недавно делали это по поводу приближающейся эры коммунистического рая.
Советские граждане могут воспринимать кликушества как болтовню ради красного словца или просто надеяться на лучшее. Ведь мы здесь живем, деваться все равно некуда. Но японец или таиландец, во-первых, не в состоянии понять – пустословие это или реальное будущее для СССР. А, во-вторых, какой им резон рисковать, испытывать судьбу? Обитают они в другом месте и разумнее там оставаться, наблюдая за развитием событий в Советском Союзе издалека.
Под стать политической и экономическая ситуация в СССР. Делать бизнес в стране с разваливающейся экономикой и драконовскими законами архисложно. Скажем, бизнесмен желает продать нам товар. Потенциальных импортеров хоть пруд пруди, но они предупреждают: «Валюты не имеем!». Иностранец начинает искать на советском рынке товар в обмен на свой. Кроме сырья (нефть, уголь, лес), ничего путного он не находит. Но снова загорается запретительный красный свет: бартер запрещен, вывоз сырья жестко лицензируется. Заморский купец вздыхает и соглашается принять оплату рублями. Выясняется, однако, что и рубли вывозить противозаконно. У уважаемого представителя сингапурских деловых кругов таможенный инспектор недавно изъял «сверхнормативные» 50 рублей, позволив прихватить с собой за кордон лишь 40. Пугающее впечатление произвело на иностранных контрагентов придание экономических функций правоохранительным органам. Ну, спрашивается, какой здравомыслящий бизнесмен променяет, скажем, процветающую, идиллическую Швейцарию на страну, где спецслужбы могут, когда пожелают, врываться в штаб-квартиру компании и рыться в документации!
Практически невозможно сориентироваться несмышленому чужеземцу в океане противоречивых законов. По подсчетам австралийских журналистов, чтобы прочесть все законодательные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность в СССР, человеку необходимо отдать без остатка 4–5 лет жизни. К моменту, когда гигантский труд будет завершен, прежние законы потеряют силу и появятся принципиально новые. А противоречия в уже действующих нормах, а столкновения законов Союза, республик, областей, городов!
О проекте
О подписке