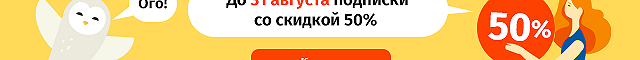
12
Мы упоминали о Рабочем и Неизвестном Солдате как о двух великих гештальтах нашего времени. Под Ушедшим в Лес мы понимаем третий гештальт, проявляющийся все отчетливее.
В Рабочем деятельное начало раскрывает себя через попытку новым способом освоить Вселенную, овладеть ею, достигнуть как близкого, так и далекого, чего не видел еще ни один глаз, покорить силы, которых никто еще не высвобождал. Неизвестный Солдат принадлежит к темной стороне деятельности, как идущий на жертву, несущий бремя в великих огненных пустынях, он призывается как добрый дух, объединяющий не только отдельные народы изнутри, но и разные народы между собой. Он – подлинный сын Земли.
Ушедшим в Лес мы называем того, кто в ходе великих перемен оказался одиноким и бесприютным и в конечном счете увидел себя преданным уничтожению. Такой могла бы стать участь многих, если даже не всех – но еще одна возможность должна была представиться. Она заключается в том, что Ушедший в Лес решается оказать сопротивление, намереваясь вступить в борьбу, скорее всего, безнадежную. Таким образом, Ушедший в Лес – это тот, кто сохранил изначальную связь со свободой, которая с точки зрения времени выражается в том, что он, сопротивляясь автоматизму, отказывается принимать его этическое следствие, то есть фатализм.
При подобном рассмотрении нам раскрывается та роль, которую Уход в Лес играет не только в мышлении, но и в реальности нашей эпохи. Любой человек сегодня находится в ситуации принуждения, и попытки устранить это принуждение подобны смелым экспериментам, от которых зависит самая великая участь, на которую только способен отважиться человек.
Надеяться на успех в подобном рискованном предприятии можно только при опоре на помощь трех великих сил: искусства, философии и теологии – и тогда из безысходности будет проложен путь. Мы приступаем к последовательному рассмотрению этих трех сил. Предпосылкой нашего рассмотрения станет тот факт, что тема попавшего в окружение одиночки все более занимает свое место в искусстве. Естественно, что сильнее всего эта тенденция проявляет себя в изображении человека на сцене театра, в кинематографе и, конечно, в романе. И в самом деле, мы наблюдаем, как меняется перспектива по мере того, как на смену описаний прогрессирующего или вырождающегося общества приходят описания конфликта одиночки с миром технологического коллективизма. По мере того как автор проникает в подобные глубины, он сам становится Ушедшим в Лес, поскольку авторство есть лишь одно из имен для независимости.
Традиция подобных изображений восходит к Эдгару Аллану По. Все экстраординарное, отличающее этого автора, кроется в экономии средств. Мы слышим лейтмотив еще до того, как поднимется занавес, и уже с первых тактов понимаем, что спектакль будет страшным. Скупые математические фигуры есть в то же время фигуры судьбы; на чем и основано их небывалое очарование. Мальстрём – это воронка, непреодолимо засасывающая в бездну, притягивающая пустота. Водяная пропасть дает нам образ «котла», все более плотного окружения, сжимающегося пространства, кишащего крысами. Маятник – это символ мертвого, отмеренного времени. Это острый серп Кроноса, что, раскачиваясь, угрожает связанному пленнику, но он же и освобождает его, если тот сумеет им воспользоваться.
А тем временем пустые географические карты заполнялись морями и странами. Прибывал исторический опыт. Все более искусственные города, автоматизированные отношения, войны внешние и гражданские, механизированный ад, серые деспотии, тюрьмы и доскональный контроль – все эти вещи получали рождение, не оставляя человека ни днем, ни ночью. Мы видим его размышляющим о ходе событий и об их исходе, видим его смелым проектировщиком и мыслителем, видим его деятелем и укротителем машин, воином, пленником, партизаном – посреди его городов, которые то сгорают в пламени, то сияют праздничными огнями. Мы видим его презирающим ценности, холодным счетоводом, но также мы видим его в отчаянии, когда посреди лабиринтов взгляд его ищет звезд.
Этот процесс имеет два полюса: первый – это целое, которое оформляется все могущественнее и движется вперед, преодолевая любое сопротивление. Это завершенный маневр, имперская экспансия, совершенная уверенность. На другом полюсе мы видим одиночку, страдающего и беззащитного, в столь же совершенной неуверенности. Оба эти полюса взаимообусловлены, поскольку грандиозное развертывание власти питается страхом, и принуждение эффективнее всего там, где чувствительность повышена.
Всякий раз, когда искусство обращается к новому положению человека как своей подлинной теме, оно выходит за рамки банальных описаний. Более того, речь идет об экспериментах, преследующих высшую цель – найти новое гармоничное сочетание мира и свободы. И если эта цель становится зримой в настоящем произведении искусства, сгустившийся страх рассеивается, как туман в первых лучах солнца.
13
Страх принадлежит к числу симптомов нашего времени. Он стал тем более пугающим оттого, что принадлежит эпохе большой индивидуальной свободы, когда даже нужда, как ее, например, изображал Диккенс, стала почти неизвестной.
Как же дошло до подобной перемены? Если вам нужен конкретный день, то ничто не подходит лучше, чем день гибели «Титаника». Здесь ярче всего контраст света и тени: встречаются друг с другом хюбрис прогресса и паника, повышенный комфорт и разрушение, автоматизм и катастрофа, проявившаяся в транспортной аварии.
По сути, растущий автоматизм и страх друг с другом тесно переплетены, причем именно в той степени, в какой человек ради технического облегчения жизни отдает способность принимать решения на откуп внешним силам. Это, конечно, приносит ему разнообразные удобства. Но вместе с этим с необходимостью происходит и дальнейшая утрата свободы. Одиночка в обществе больше не подобен дереву в лесу, скорее он подобен пассажиру быстро передвигающегося транспорта, который может называться «Титаником», а может и Левиафаном. Пока погода хороша, а виды приятны, он едва ли замечает то состояние минимальной свободы, в котором он оказался. Наоборот, наступает оптимизм, ощущение силы, навеянное скоростью передвижения. Все меняется, когда появляются огнедышащие острова и айсберги. И тогда техника не только превращается в нечто далекое от комфорта, но и становится заметным недостаток свободы – будь то в победе стихии, будь то в том, что одиночки, сохранившие свою силу, начинают осуществлять абсолютную командную власть.
Детали этого положения известны и неоднократно описаны: они лежат в области нашего непосредственного опыта. Здесь может возникнуть возражение, что уже случались эпизоды страха, апокалиптической паники без всякого сопровождения со стороны автоматических процессов. Мы оставим это возражение без рассмотрения, поскольку автоматическое становится по-настоящему страшным только тогда, когда оно проявляет себя как одна из форм злого рока, как стиль, столь непревзойденно переданный в полотнах Иеронима Босха. Пускай это будет хоть современный, совершенно особенный страх, хоть стиль эпохи все возвращающегося Мирового Ужаса – мы не хотим задерживаться на этом вопросе, вместо этого мы зададим встречный вопрос, который нам больше по душе: можно ли ослабить страх, пока автоматизм не только продолжает существовать, но и, как можно предположить, продолжает совершенствоваться? Можно ли, оставаясь на Корабле, в то же самое время сохранять способность принимать собственные решения, что означает – не терять своих корней, укрепляя их связь с первоначалом? Это и есть подлинный вопрос нашего существования.
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке