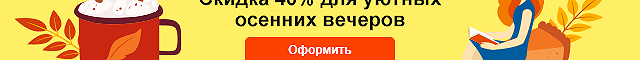
Первые допросы
Долго будут помнить берлинцы знаменитое дело Бельской, наделавшее в Германии почти столько же шума, как и во Франции пресловутое дело Дрейфуса и точно так же расколовшее все берлинское общество на два лагеря, превратившись из простого дела об убийстве из ревности в дело социально-государственной важности.
Случилось это не сразу, а постепенно и незаметно.
Арестованную в бесчувственном состоянии артистку не могли разбудить в продолжении целого дня. Не помогли никакие средства, никакие врачи, перебывавшие чуть ли не десятками у ее постели.
Как бы то ни было, но над «загипнотизированной» (и на этом определенно сошлось большинство врачей) молодой женщиной проделали столько самых разнообразных опытов, что только присутствие доктора Рауха, ни на минуту не отходившего от нее, спасло бесчувственную от слишком опасных экспериментов с электрическими токами, сила которых легко могла превратить летаргический сон в вечный. По счастью и судебные власти, в виду интереса императора к заключенной, в свою очередь воспротивились чересчур энергичным попыткам.
Ольга пробудилась только глубокой ночью, когда сиделка, охранявшая бесчувственную, заснула перед рассветом крепким сном, так что свидетелем пробуждения оказался только доктор Раух, остававшийся бессменно при своей пациентке.
Быть может, только этому обстоятельству и обязана была Ольга тем, что страшная неожиданность свалившегося на нее обвинения в убийстве дорогого человека тут же не убила и по меньшей мере не лишила ее рассудка.
Потянулись бесконечно длинные, тоскливые дни уголовного следствия.
Только через доктора Рауха несчастная молодая женщина узнавала кое-что о том, что творится за стенами ее тюрьмы.
Целых три месяца продолжалась пытка одиночного заключения, во время которого Ольга не видала никого, кроме тюремных надзирательниц, не говорила ни с кем, кроме следователя и прокурора, напрягавших все усилия для того, чтобы убедить ее сознаться в убийстве, которого она не совершила. Говорили о «страшной каре», ожидающей ее, и предоставляли ей единственную возможность смягчить эту кару чистосердечным признанием.
Бледная и серьезная слушала Ольга жестокие угрозы и отвечала одной и неизменно той же фразой:
– Позвольте мне повидаться с отцом моего жениха, и я тотчас же расскажу вам все, что знаю и… предполагаю…
Только благодаря доктору Рауху, Ольге удалось добиться разрешения исповедаться и приобщиться Св. Тайн у православного священника. Следственные власти долго противились этому и уступили, наконец, лишь под давлением консервативной прессы, вставшей на защиту подследственной арестантки, которой отказывают в духовном утешении.
Общественное мнение волновалось, сгорая от любопытства.
Давно уже не было дела, имевшего столько элементов для возбуждения страстного внимания публики. Здесь было собрано все нужное для уголовного романа. Слухи о том, что сам император интересовался обвиняемой, разжигали еще больше любопытство публики.
Злые языки накинулись на прошлое иностранки-актрисы. Перебирались мельчайшие подробности ее несчастного супружества; изобретались и печатались небылицы о многолетних странствованиях по белу свету беглянки, мужа которой убил один из многочисленных почитателей ее… До бесконечности варьировалась гнусные сплетни.
Ярко выраженное враждебное настроение всех так называемых «либеральных» газет резко бросалось в глаза каждому сколько-нибудь наблюдательному человеку. Берлинская, а за ней и провинциальная печать называла Ольгу Бельскую убийцей, немедленно сообщая и усиленно подчеркивая каждую мелочь, которую можно было истолковать в смысле, желаемом обвинению. Тому, кто проследил бы повнимательней за поведением иудейских газет, было бы не трудно заметить их цель: приучить общественное внимание заранее считать обвиняемую виновной.
Газеты независимые были сдержанней, ожидая результатов следствия, прежде чем выражать свое мнение о виновности арестованной молодой артистки.
Между тем, следственные власти выбивались из сил и теряли терпение, не находя доказательств виновности Ольги Бельской. «Неопровержимые» улики, о которых столько кричала враждебная Ольге печать, были добыты сразу, во время первых обысков, а затем следствие как будто начало кружиться на одном месте, не находя выхода из заколдованного круга.
Правда, налицо были страшные улики: кинжал в груди убитого, окровавленная обувь, найденная в номере гостиницы, занятом предполагаемой убийцею, наконец, ключ от дома, где совершено было убийство, оказавшийся в кармане бесчувственной молодой женщины. Все это придавало роковое значение ее присутствию в одной комнате с телом профессора Гроссе.
Но с другой стороны ежедневно выяснялись новые обстоятельства, запутывавшие дело и значительно уменьшавшие вероятность виновности молодой женщины.
Из показания одного из артистов выяснилось с полной точностью время окончания спектакля. Артист торопился на ужин к знаменитому фабриканту. Боясь опоздать на ужин, артист поминутно глядел на часы, досадуя на затянувшийся спектакль и, когда по окончании последнего акта начались вызовы «Иоанны д’Арк», он, выходя со сцены рука об руку с Ольгой Бельской, сказал в присутствии двух машинистов и одного актера, снова глядя на часы: «Двадцать минут одиннадцатого… Слава Богу, как раз поспею к началу ужина». В это время Ольга Бельская стояла рядом с ним в костюме Орлеанской Девы. Между тем, привратники дома, где произошло убийство, припомнили, что в ту минуту, как они окликнули «женщину в белом», отворявшую своим ключом входную дверь, с соседней колокольни раздался один удар, то есть часы пробили половину одиннадцатого.
Итак, если Ольга Бельская убила Рудольфа Гроссе в ночь со среды на четверг, то она уехала из театра не раньше половины одиннадцатого и вернулась домой не позже половины двенадцатого, имея не более часа времени для совершения преступления.
Первоначальная теория обвинения – об убийстве, совершенном в среду ночью, – положительно искрошилась в руках следователя. Оставалось одно: предположить, что убийство совершено было в четверг, ранним утром, когда артистка могла вторично пробраться в квартиру профессора, благодаря своему ключу. Но Гермина Розен, явившись к следователю, рассказала ему все подробности своего путешествия с Ольгой и разговора с привратниками.
Швейцар гостиницы видел посыльного, принесшего артистке письмо, прочтя которое она поехала в роковой дом. Бой представил следователю записку, подобранную им в театре, – записку, разорванную Ольгой и не полученную Рудольфом, который был уже убит в это время.
Эксперты нашли, что записка Рудольфа, которой он вызывал Ольгу, подделана, хотя и чрезвычайно искусно.
Тогда еврейская пресса стала пропагандировать такую версию: артистка считала себя счастливой невестой, когда необъяснимое отсутствие жениха и рассказ боя, принесшего ее записку обратно, возбудили ревность и недоверие «страстной славянки». Желая проверить рассказ о странном отсутствии своего жениха, Ольга в тот же вечер после спектакля отправилась к нему на квартиру, для чего и воспользовалась ключом, полученным ею раньше. Благодаря этому ключу, подозревающая измену молодая женщина незаметно пробралась в дом и в квартиру профессора, которого и застала за ужином с какой-то дамой. Последнее подтверждалось накрытым столом, остатками десерта и букетом роз, ясно говорившим о том, что профессор ожидал к столу даму, и притом только одну, так как на столе стояли только два прибора.
Оскорбленная невеста удалилась из квартиры.
На рассвете она вторично прокралась в квартиру своего жениха и, найдя его спящим, убила ударом кинжала в сердце. Только затем, желая обезопасить себя, она пыталась создать картину самоубийства, для чего и выстрелила из собственного револьвера профессора (лежавшего по обыкновению на столике возле его кровати) в голову убитого и бросила револьвер на пол возле свесившейся руки трупа.
Потом убийца ушла, торопясь вернуться домой до пробуждения гостей. Но при этом благодаря естественному возбуждению, она позабыла о кинжале, за которым и принуждена была вернуться в следующую ночь, понимая, какой страшной уликой должен был стать этот кинжал. Для объяснения же этого посещения актриса придумала записку от имени убитого и отослала ее сама себе с посыльным.
Такова была гипотеза, напечатанная почти всеми еврейскими газетами в один и тот же день, лишь с незначительными вариантами.
Все объяснилось довольно правдоподобно. Только два пробела и было в этой цепи улик: не нашли посыльного, приносившего в гостиницу подложное письмо на имя Ольги Бельской, и не выяснена была личность женщины, с которой Рудольф Гроссе ужинал и присутствие которой якобы возбудило ревность его невесты и стало причиной роковой развязки.
Так обстояло дело через три месяца после начала следствия, и к этому убеждению пришли следственные власти, печать и общественное мнение, прежде чем обвиняемая нарушила свое молчание.
Молча выслушала она все убеждения следователя и только презрительно улыбалась на его советы – сознанием смягчить ожидающую ее кару.
– У меня есть особенные и весьма серьезные причины не отвечать ни на один вопрос до тех пор, пока я не увижу отца моего убитого жениха. Только переговорив с ним, я буду знать, что могу сообщить правосудию.
Другого ответа от нее так и не добились, несмотря на все увещания и даже угрозы.
В конце концов прокурор сдался, нетерпеливо пожав плечами:
– Я не понимаю вашей «системы», сударыня… Но так как следствие, собственно говоря, уже закончено и улики против вас более чем достаточны, то я, пожалуй, готов исполнить ваше желание и разрешить вам свидание с отцом профессора Гроссе…
Показания обвиняемой
Свидание состоялось в присутствии следователя и прокурора, на что заранее соглашалась как Ольга, так и директор Гроссе, со своей стороны тщетно добиваясь разрешения повидать ее.
Впервые увидали следственные власти слезы на прекрасных глазах заключенной, когда она бросилась на грудь белому как лунь старику, на благородном лице которого глубокое горе положило неизгладимые следы.
Проводя дрожащей рукой по золотистой головке Ольги, старик произнес:
– Надеюсь, дитя мое, ты не сомневалась в том, что не по своей вине я не видал тебя до сих пор.
– Знаю, отец мой, – ответила Ольга, отирая слезы. – Так же твердо знаю, как и то, что вы никогда не сомневались в вашей бедной Ольге.
– Ни минуты, дочь моя – торжественно произнес старик, не выпуская из объятий молодую женщину. – Даже тогда, когда мне говорили, что ты созналась…
Синие глаза Ольги гневно сверкнули.
– Неужели подобные маневры разрешаются следственным властям вашими законами? В таком случае мне жаль Германию.
Следователь поспешил сказать:
– Быть может, обвиняемая сообщит нам теперь сведения, оправдывающие ее настолько, что…
Ольга поспешно обернулась к своему старому другу; который, по приглашению прокурора, занял одно из трех кресел, находившихся в комнате.
– Скажите, отец мой, знали ли вы о тяжелых предчувствиях вашего бедного сына?
Глубокий вздох поднял могучую грудь красивого старика.
– Знал, дитя мое…
– Скажите мне еще одно, отец мой, получили ли вы от Рудольфа, – голос молодой женщины дрогнул, произнося это имя, – получили ли вы от вашего сына записку, написанную во вторник или понедельник?
– Я знаю, о какой записке ты говоришь, дитя мое. Я ее получил и узнал из нее самое горячее желание моего сына, которое несомненно будет мною исполнено.
Нежный румянец медленно разлился по бледному лицу Ольги. Она подняла голову к небу и, машинально повернув ее в передний угол, туда, где у нас, православных, висит святая икона, отсутствующая в протестантской Пруссии, торжественно перекрестилась.
– Значит рукопись, о которой беспокоился Рудольф, в ваших руках? – произнесла она таким тоном, что следственные власти поняли важность этого вопроса и насторожились.
Старик взглянул на Ольгу, напоминая этим взглядом об осторожности, и ответил спокойным тоном, сжимая своей дрожащей старческой рукой тоненькие прозрачные пальцы молодой женщины.
– Второй том «Истории тайных обществ» в моих руках. Все нужное уже передано в типографию, согласно желанию Рудольфа. Повторяю, не беспокойся… Все его желания будут исполнены в точности.
Ольга вторично перекрестилась.
– Слава богу, убийцы, по крайней мере, не достигнут своей цели.
– Убийцы?! – не выдержал следователь. – Значит, вы знаете убийц?..
– Конечно знаю, хотя и не поименно… Так же хорошо знаю, как и отец моего жениха.
– Как, сударь мой, вы, отец убитого, знали убийц вашего сына и молчали, скрывая виновных от правосудия?.. Это… это… возмутительно, господин Гроссе…
Старик гордо поднял голову.
– Я прошу вас выражаться осторожнее, господин прокурор, – со спокойным достоинством произнес он. Мне 75 лет от роду, вы же еще молодой человек и могли бы иметь уважение к моим сединам… Не говоря уже о моем горе…
– Но почему же вы молчали, если вы знаете, кто причинил вам горе? – значительно сбавив тон, допытывался представитель обвинительной власти.
– Я молчал потому, что это было необходимо, пока свидание не допущено. Практического значения отсрочка моего показания иметь не могла. Сейчас вы сами в этом убедитесь…
– Я же молчала потому, что не хотела каким-либо неосторожным словом помешать осуществлению великого плана моего бедного жениха… Теперь, когда я знаю, что уже печатается вторая часть сочинения Рудольфа, т. е. того дела, которому он отдал свою жизнь, теперь я могу сказать, что автора этого сочинения убили именно для того, чтобы не допустить опубликования известных ему фактов. Имя же этих убийц – масоны…
Старый директор молча утвердительно кивнул головой.
Следственные власти сидели совершенно ошеломленные. Они ожидали всего, чего угодно, только не этого.
– Масоны? – растерянно повторил прокурор. – Что вы хотите этим сказать, сударыня?
– Именно то, что я сказала, – спокойно ответила Ольга. – Спросите отца моего жениха, он подтвердит вам, что масоны убили автора «Истории тайных обществ», в которой заключаются не совсем лестные сведения для ордена «свободных каменщиков». Это я предполагаю, так как, не читав рукописи, не имею права судить о ее содержании.
– Мой сын был сам масоном в юности, – прибавил директор Гроссе печально, – почему его сочинения и могли почесться масонами изменой. Этого давно уже опасался мой бедный Рудольф. И этот-то страх и заставил его написать свое завещание, в котором предчувствие близкой кончины так же ясно высказано, как и причина ненависти к нему масонов.
О проекте
О подписке