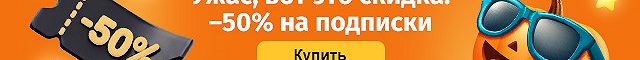
Бабушкины дети
Почему-то всех называли: Петька, Ленка, Валька… Петя, Лена, Валя – это было почти официально, а уж всякие там Петечки, Леночки, Валечки – и совсем уж не принято, разве только когда поздравляют тебя с праздником и чего-то там желают.
Вот и бабушку мою – Дуню, Евдокию, все звали ласково – Дуняшка. Была бабушка Дуняшка маленького роста, наверное, не выше метра пятидесяти. Всегда в платочке, под платочком в волосах – круглая гребенка. Никогда я не видела ее нахмуренной или злой, только улыбчивой. Она не то что ругаться, а и сердиться-то, кажется, не умела. Если с чем-то не согласна, только рукой махнет: «Делайте, мол, как знаете» – и все.
Бабушка с дедом Ваней до войны жили в деревне Ченежа. Она была из зажиточной семьи и вышла замуж за деда «самокруткой», то есть против воли родителей – Ванюшка был парень хоть куда, но из совсем уж бедноты, да еще и в Бога не верил, в храм не ходил. А у Дуняшкиных родителей – и лошади две, и коровы, и овцы, не считая уж всякую «мелочь» вроде кур и свиней. Да и сама она была ловкая да «басенькая». Но вот поди ж ты, влюбилась в Ваню. Решили потихоньку пожениться, Ванька даже на церковь согласился – тут Дуняша намертво встала. А там уж к родителям в ноги кинулись, по обычаю. Тем деваться некуда – простили и приняли зятя. Даже дом им построили, с помощью всей деревни.
Почти перед самой войной Иван перевез семью в город. Дом хороший купили: Ваня работал лесником, зарабатывал не шикарно, но по тем временам – очень прилично. Только особого достатка в их семье никогда не было – так, жили, как все: прокормиться бы, да одежу-обувку справить. Да и то сказать: один работник в семье, бабушка домом была занята, хозяйством (корова, овцы, куры, свинья, огород), детьми. Детей было восемь – пять девок да три парня. Правда, один, Славик, умер в восемь лет от скарлатины. И вообще дед добытчиком был: грибы, ягоды, рыба – все это он из лесу приносил. Вот только охотиться не любил. Даже и ружье у него имелось, и, как лесник, мог дичины приносить, но – нет. Не любил это дело, жалел зверей. Зато рыбы – сколько угодно. Бывало, удочку возьмет, пойдет на речку и говорит бабушке: «Печку растапливай, да воду грей, будешь уху варить». Бабушка ему, мол, что заранее воду греть, ты сначала рыбу принеси, а он: «Ты грей, грей, рыба-то будет», – и да, через полчаса с рыбой идет.
На войну его не взяли – лесник нужен был здесь. Ожидали диверсий со стороны финнов, а кто, как не лесник, лучше проследит. Дошли немцы только до Ченежи, до города не успели. Да и в Ченеже пробыли недолго, уже через несколько дней партизаны их выдворили. Так что и люди даже не пострадали. Только на Пудож однажды налетели фашистские самолеты, сбросили мимо несколько бомб. Лишь одна попала в цель – Садовая улица окраинная, бомба угодила в дом, который стоял через один от их дома. Погибла старенькая бабушка, остальных дома не оказалось.
А вот дедушкин брат, Александр, ушел на войну совсем молодым, даже жениться еще не успел. Пропал без вести.
С сыновьями у бабушки какая-то неудача была. Старший, Женька, связался по молодости да по глупости с такими же бестолковыми, обворовали ларек. Получили сроки. Вышел – опять что-то украл, опять попался… Да и выпивал. Что называется: «украл, выпил, в тюрьму». Так и жил потом. Одно время попытался жизнь наладить, женился, сын родился, Сашка. А потом жене его вздумалось на Север завербоваться. Как бабушка ни просила хоть на первое время Сашку у нее оставить – уехали и ребенка увезли. Сашка только должен был в школу пойти. Прислали пару писем, что устроились, все нормально. Потом уже от Сашки было письмо – забери, мол, меня бабушка, отсюда. Дочки бабушкины долго потом еще спрашивали: как там, мол, пишет ли наш «Ванька Жуков»? Ответила она Саше, что заберет, только пусть родители напишут, что не против. Пришел ответ от Сашкиной матери, что Женька опять в тюрьме, а она уезжает вместе с сыном в другой город. Женька на этот раз получил большой срок, да так и умер там в конце концов, а от Сашки больше писем не было. По бабушкиной просьбе дочери несколько раз посылали запросы везде, где можно, искали его, но так ничего и не добились.
Славик умер от скарлатины. Третий сын, Александр, самый младший из детей, хорошим вырос. В училище выучился, шофером работал. Женился, сына в честь умершего братишки назвал – Славиком. И утонул на рыбалке: машина под лед провалилась, он выбраться не успел… Славику лет пять всего было.
С именем Александр – целая история семьи. В честь дедушкиного брата, пропавшего без вести (осталась только его фотография в военной форме) дед назвал младшую, пятую, дочку, родившуюся в 1942 году, вскоре после полученного известия. Ее всегда звали Шурой. А в сентябре 1945, уже после Победы, родился у них еще сын. На радостях дед выпил и… зарегистрировал его Александром! В честь брата. Когда же бабушка сказала, что у них уже есть Александра, очень удивился – ведь дочка-то – Шурка! Да и девка, а тут – пацан! А когда у Шуры родился старший внук, его тоже назвали Александром, уже в честь бабушки Шуры.
***
А вот пятеро дочек у Дуняшки – все, как на подбор, умницы-красавицы.
Старшая, Вера, пример и гордость. Красавица, в бабушку, умница – всю жизнь проработала бухгалтером, и главным в том числе. А уж рукодельница! И шить, и вышивать, и вязать – все умела отлично. Сшитые или связанные ею вещи были всегда сделаны с отменным вкусом и безупречным качеством. Свяжет свитерок руками – не отличишь от связанного на машинке, а уж платье или сарафан сошьет – люди на улице подходят, спрашивают, где она такое «достала». А ее вышивки! Настоящие картины! Одна – сирень в вазе, величиной, наверное, метр на полметра, висела у них над диваном. Рассматривать ее можно было, как полотно в музее: чуть отойдешь – сирень, как живая, на вазе блики солнца, на лепестках капельки воды. А приблизишь глаза – стежочки видно разного цвета, да такие ровненькие, будто машина делала. Попыталась я как-то сосчитать, сколько красок в этом шедевре, но сбилась где-то на третьем десятке. А тетя Вера на мой вопрос ответила, что уж и не помнит, но тоже заинтересовалась и насчитала только фиолетово-сиреневых оттенков на одной кисти около десяти!
Вторая, Нина, самая веселая и добрая, никогда в жизни не только никого не обидела, но и даже голос ни разу, по-моему, не повышала. Что уж мы – ее дочки да племянницы, бывало, у них ни вытворяли – только скажет: «Девочки, уберите все потом», – и все.
И дом у нее всегда в порядке и чистоте (хозяйкой была очень хлебосольной и гостеприимной), и двух дочек вырастила-выучила, да и внуков успела понянчить. Девочек своих, а потом и внуков, любила безмерно, гордилась их успехами. Сына у нее не было, может, поэтому очень любила племянника, Диму, моего младшего брата. Если знала, что я его приведу, обязательно покупала для него недешевый тогда болгарский компот ассорти. Мы, большие, на компот не претендовали, знали, это – Димке. И пока мы занимались своими девчачьими делами, тетя Нина играла с ним то в домино, то в шашки. А еще она любила подпевать радио смешным тоненьким голосочком. Мы немножко посмеивались над ее пением, но знали – тетя Нина поет, значит, все хорошо…
Третья дочка, Люся – очень практичный человек. Уж будьте уверены – если где какую пользу можно извлечь – Люсик извлечет. И сестрам частенько советы дельные давала, что при всеобщем дефиците всего и вся было иногда настоящей палочкой-выручалочкой. Как-то завезли в магазин мохеровые пледы. Красивые, насыщенного бордового цвета с одной стороны, постепенно переходящего в темно-красный, но дорогущие: 90 рублей, по тем временам целая зарплата. Да и куда его? На диван не постелешь – не практично. Вот их и не покупали. Так тетя Люся вот что придумала: надоумила сестер купить плед на четверых и разрезать его на четыре части. Вышло по 22 рубля. А если учесть, что из каждой части получилось по две супермодных тогда мохеровых косынки (да еще мохер-то для вязки пойди достань!), а в придачу шарфик – то и вышла очень удачная покупка. Вера с Люсей свои куски к тому же на нитки разобрали, и Вера связала им по шапке, опять же супермодной, а Шура с Валей носили косынки. Вторую косынку Шура подарила своей подруге, а Валя – сестре Нине, которой пледа не досталось. В тот же день, когда сестры в обновках пришли каждая на свою работу и поделились, откуда такая красота, пледы с прилавка смели. И самые расторопные женщины в городе щеголяли кто в мохеровых косынках, кто в платках, кто в шапочках, а их мужья – в шарфах.
Конец ознакомительного фрагмента.
О проекте
О подписке
Другие проекты