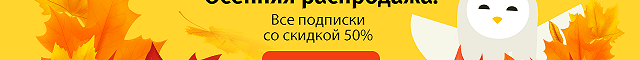
Глава пятая
Решётки везде. На окнах, на дверях. Всё запирается. Посещения разрешены, но только под строгим надзором Алевтины Александровны Омжуйской, крупной, высокой, крепкой женщины предпенсионных лет, с грушевидным носом и пустыми глазами под тяжёлыми веками на каменном лице.
Она выводит их по одному в круглый зал с редкими кушетками вдоль стен. Громогласно выкрикивает фамилию. Посетитель встаёт, кивает. Смотрительница толкает пациента в спину и уходит.
Сегодня в приёмной их пятеро: две женщины, трое мужчин. Мужчины небритые и, кажется, давно немытые. Эти из «пограничных», потому обколотые, на местном жаргоне «притупленные». Родственники подсовывают им еду. Пахнет котлетами.
Есть «притупленному» тяжело – нарушена координация; ложка не попадает в рот, пюре вываливается на пижаму. У того, что на соседней кушетке, суп выплёскивается, стекает по подбородку, родственница выхватывает ложку, пытается кормить. Глядя на это, третьему родственники сами кладут в рот котлету, тот давится, выплёвывает, заходится в кашле.
Ни у кого из присутствующих это не вызывает отвращения, только бессильную жалость. У них всего 5 минут, больше и не надо. Долгий визит для всех утомителен.
Когда входит смотрительница, кто-то быстро засовывает в карман пижамы больного сигареты и что-нибудь ещё: яблоко или леденцы.
– Титус! – кричит Омжуйская, и человечек с профилем античной статуи скукоживается в бабуру и начинает трястись.
– Их бьют, – вполголоса произносит женщина с муреновыми глазами, провожая взглядом трясущегося сморчка, подталкиваемого в спину грозной смотрительницей.
– За что? – вскидывает ресницы маленькая хрупкая блондинка с дымчатым взглядом, когда дверь захлопывается.
– За всё. По поводу и без.
– Зачем?
– Чтобы выработать рефлекс страха.
– И тебя?
– Меня нет. Эти из буйного. С ними по-другому нельзя.
Маленькая женщина буравит глазами подругу. Потом опускает карие глаза и вздыхает.
– Несчастные люди.
– Несчастные? А что такое счастье? Ты уже знаешь?
Блондинка печально смотрит на подругу и молча пожимает плечами.
– А я теперь знаю.
Дверь в приёмную снова раззёвывается, впуская смотрительницу.
– Фёдоров!
Всё повторяется. Точь-в-точь. Пациент, спотыкаясь под толчками Алевтины Александровны, исчезает за дверью, родственники, опустив головы, уходят.
– Счастье – это как картина в стиле пуантилизм. При попытке подойти и рассмотреть, изображение вблизи распадается на множество цветных точек. Они как пиксели, просто набор холодной и тёплой, яркой и приглушённой красок на холсте. Вблизи контуры расплываются, плоскости переливаются одна в другую, словно высказанные нами ощущения чувства счастья, а смысл так и остаётся неточным и неуловимым. Такие картины обычно рассматриваются на расстоянии, на расстоянии они сливаются в полный сюжет. Так же и счастье. Лишь с расстояния прожитого, пережитого, нам становится вдруг понятно, что то, пережитое нами когда-то, и было счастьем.
– Ты сожалеешь о том, что сделала?
– Нисколько.
Дверь хлопает.
– Мастергардов! – строчит как из автомата смотрительница.
Мужчина с красным, будто только что обожжённым лицом щерится, подскакивает и торопливо семенит к двери.
На кушетке в углу двое. Мужчина и женщина. Взгляд мужчины потуплен, руки трясутся, он что-то мямлит, вжимаясь в дерматин кушетки. Женщина сидит прямо. Локоны серебристых волос зачёсаны назад. Она смотрит на мужчину с горделивым достоинством. В какой-то момент её взгляд меняется, всего на секунду в глазах появляется жалость, но тут же исчезает, и она отворачивается.
– Комиссарова! – кричит смотрительница, и женщина встаёт. Она идёт к двери с прямой спиной, высокая, дородная, и исчезает за ней с высоко поднятой головой.
Мужчина смотрит блуждающим взглядом, хватает бумажный пакет.
– Яблоки. – Он протягивает пакет в сторону двери, замирает, когда рука опускается, он встаёт и, пошатываясь, уходит.
Фрида провожает его мутным взглядом.
– Ты больше не приходи сюда. – Она встаёт. – Никогда.
Омжуйская появляется в приёмной, как привидение.
– Образцова.
Глава шестая
Ей нравилось здесь жить. Особенно летом. Слушать гул моторок на вечерней реке, тарахтенье мотоблоков, скрежет колёс в соседнем дворе, нравилось здороваться с каждым прохожим и приветственно махать знакомым через забор, прогуливаться по берегу, смотреть на падающее за горизонт солнце и подкармливать бродячих собак с интеллектом выше, чем у некоторых городских ушлёпков.
Это было подарком, это было спасением.
Год назад, после тяжёлого разрыва с Виталиком, она искала уединения, надо было переболеть ситуацией, забыться, чтоб не мстить даже в мыслях… Угу, легко сказать… Умом вроде и понимаешь, что незачем, бессмысленно, да и особо-то не за что. Другая плюнет, забудет и внимания не обратит на то, что тебя так торкнуло… А у тебя не так, у тебя бес реальности, который шепчет на ухо: «Поигрался и убрался, выбросил тебя, как истрёпанную старую куклу и нашёл новую. Выпил твои чувства и эмоции до капли, как дементор из детской сказки. И ты перестала существовать, как разумное существо, просто живёшь, пока живо твоё тело».
Чтобы отвлечься от тягостных дум и навязчивых мыслей, она сходила в церковь и даже помолилась не за себя, за него. «Господи, прости дурака, у него понятия и нормы другие, не твои. А ты просто глупая женщина, неверно оценившая ситуацию и свои силы».
Но сердце ведь не обманешь, оно с умом и особо не спорит, и в мыслях ты уже пару раз распяла, десять раз убила разными способами, и как минимум один раз кастрировала… А на следующий день опять будешь молиться о прощении твоих и его грехов. Вот такое вот двоедушие, и ничего с этим не поделаешь.
Неизвестно, как бы всё сложилось, но судьба сама подкинула решение: умерла бабушка, оставив ей в наследство старый покосившийся домишко. Дом, пусть и старый, пусть и на самом краю посёлка, но всё-таки свой собственный, был шансом на спасение, местом для зализывания ран. Зоя уволилась с работы и, похоронив бабушку, осталась жить в Дубне. Вскоре нашлась и работа. Пригодились некогда законченные курсы медсестёр. В местном психдиспансере персонала не хватало, и, встретив её на улице, главврач Аркадий Батаков сходу предложил ей должность медсестры. Она согласилась, не раздумывая.
Да, всё было так, как ей и хотелось. Никакого тебе асфальта и бетона, идёшь рано утром по улице, пыльной и извилистой, глаза видят лес, тропинку, высокие деревья. Идёшь туда, где в окне одноэтажного серого строения, в тиши крохотного тёмного кабинета прозрачным холодным пятном мигает монитор.
Работа в этом пугающем нормальных людей заведении ей нравилась. Буйных в диспансере было немного, и те в другом отделении. К своим пациентам Зоя относилась как к несчастным людям. Они были такие же, как она, живые только физически, иногда суматошные и невнятные, со странной сменой эмоций, пребывающие в своём таинственном и вневременном мирке. Но она не боялась, она их жалела. Пугала только мысль, вернее, представление о том, что происходит в их сознании, которое то ли было у них, то ли не было, пугала на каком-то глубинном, подсознательном уровне.
Обычный её день, заполненный процедурами и уходом за пациентами, заканчивался быстро, вечером она возвращалась домой, хлопотала на кухне, перед сном обычно разгадывала судоку, а потом под еле слышное бормотание радио засыпала. Она намеренно не пользовалась ноутбуком, не заглядывала в соцсети, отключила на телефоне интернет. Ведь она хотела про всё забыть, но перед глазами настырно маячила картинка из его сторис.
***
На свадьбу друга он отправился один, накануне они повздорили – так себе, не то, чтобы всерьёз, а как много раз до этого, он не понял её шутку, она его, так бывает в интернете, случалось и много раз раньше. Он психанул и пошёл один. Вечером она заглянула на его страничку в соцсети.
Длинный, словно нескончаемый стол, задрапированный белой тканью, мало закуски, много выпивки. «Это моя первая рюмка». – Он поднял рюмку, глядя в камеру, резко опрокинул. Только успел подскочить кадык, и картинка тут же сменилась, теперь рядом с ним сидела круглолицая брюнетка с огромным веером ресниц. Всё также глядя в объектив, но уже без рюмки в руке, он приобнял курносую брюнетку и ухмыльнулся: «А это моя последняя Марина». После чего жадно впился в пухлые девичьи губы.
Она заблокировала его аккаунт и удалила приложение.
***
Вставала Зоя рано и первым делом выглядывала в окно, чтобы увидеть небо. Зимнее небо на рассвете почти всегда было сумрачно-серым, но ей это нравилось. Это было похоже на сознание её пациентов, такое же таинственно-притягательное. Скорее бормоча, чем напевая, она любила покрутиться перед зеркалом. Стройное упругое тело требовало мужских ласк. Зоя вздыхала, натягивала тёплый свитер и джинсы, куталась в пуховик и шла на работу.
Зимой извилистая тропинка тонула в снежной каше, и огромные бабушкины валенки, проваливаясь в снег, краями давили на согнутые колени. Укутанный темнотой посёлок в это время ещё спит, но идти одной по пустынной улочке не страшно. Лихих людей здесь отродясь не было, да и путь не долгий: 500 шагов, и вот она, больничка, серая и унылая. Такая же, как и этот начинающийся день. Как и все предыдущие дни, как и все будущие.
Зоя вошла с заднего входа, открыв двери собственным ключом. Так было ближе. Небольшой медсестринский кабинет находился в конце коридора, почти у самой лестницы. Рано утром в диспансере ещё тихо и спокойно, можно заварить чай со смородиновым листом и пить сразу, маленькими глотками, не дожидаясь, пока остынет. Она так любила, знала, что вредно, и что рано или поздно эта привычка приведёт к проблемам с пищеварением, но обжигающий внутренности напиток помогал унять душевную боль, которая до сих пор сидела занозой где-то чуть выше желудка.
Допив чай, Зоя сполоснула кружку и стала готовиться к утренним процедурам. Все действия были доведены до автоматизма. Пробежав глазами записи с назначениями, она расставила в ряд штативы, закрепила на них бутыли с лекарствами и покатила капельницу в ближайшую к сестринской палату.
Дверная решётка была приоткрыта, Зоя вставила ключ в замочную скважину, но дверь, как и решётка, оказалась не заперта. Это её не удивило, Вячеслав Петрович любит ранние обходы. Зоя распахнула дверь и вкатила капельницу.
В палате было сумеречно и тихо. Пожилые пациентки спали. Зоя подкатила штатив к одной из женщин и тронула её за плечо, чтобы разбудить, но пациентка не отреагировала.
– Тётя Галя, – Зоя взяла женщину за руку, но рука выскользнула и, ударившись о край кровати, безжизненно повисла. – Господи! – вскрикнула Зоя и посмотрела на вторую пациентку, но та продолжала спать, не реагируя на крик.
Приложив руку к шее Галины Комиссаровой, в место пульсации вены, Зоя ничего не почувствовала. Зато почувствовала, как мгновенно вспотели ладони, а в кончики пальцев вонзились иголки. Тишина и полумрак давили, вызывая лихорадочный трепет.
Зоя метнулась в сторону другой пациентки и прижала дрожащие пальцы к её шее.
– Боже мой, что это? – сердце заколотилось со скоростью и шумом цепного мотоблока; во рту пересохло.
Обе пациентки были мертвы!
Зоя кинулась к дверям и только теперь заметила лежащего на полу справа от входа человека в белом халате. В полумраке палаты она не сразу узнала в нём врача, Дмитрия Юрьевича. Чувствуя, что упадёт, Зоя прислонилась к стене, набрала в рот воздух и сделала два больших глотка.
Вроде помогло. Во всяком случае, замельтешившие было перед глазами мушки рассеялись, но ноги ещё оставались ватными.
В коридоре послышался шум шагов, Зоя снова набрала в рот воздух и, резко выдохнув, крикнула:
– Помогите!
О проекте
О подписке