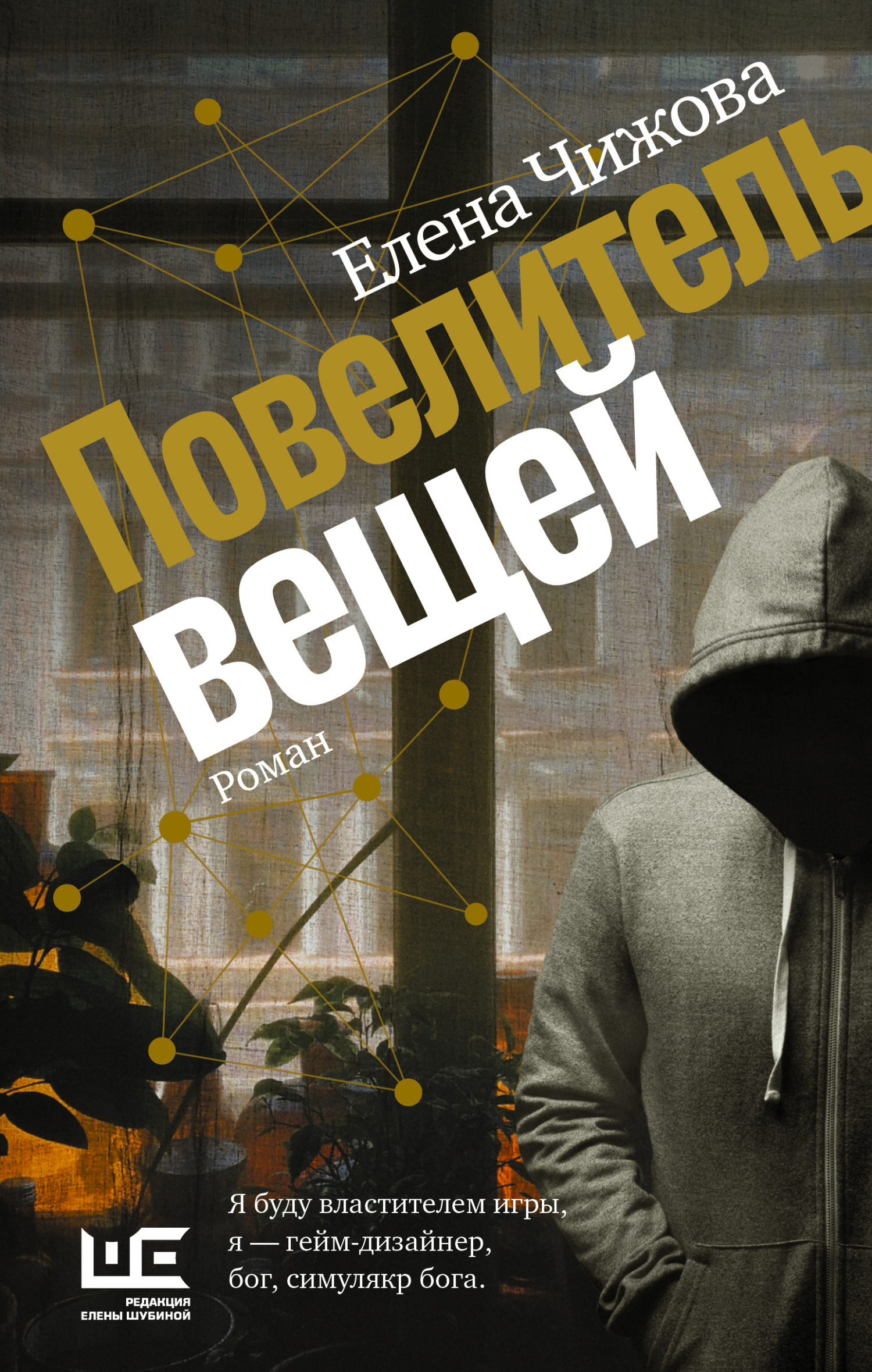Удивившись нелепости вопроса, она вырвала его, как сорняк из грядки; обошла окрестные магазины, наполнила икеевский мешочек свежими продуктами (привычно прикидывая, что бы такое приготовить – сперва на обед, потом на ужин, – а что может полежать в холодильнике до завтра) – и мало-помалу составила примерное меню, из которого мамочка наверняка что-нибудь вычеркнет: опять, дескать, борщ, в прошлую субботу варила, а щи в понедельник, – во всем, что касалось еды, материна память давала фору любому календарю.
А ведь сколько раз предлагала: «Давай обсудим с вечера», – но нет, ни в какую: «В моем возрасте загадывать? Загадаю – а ночью умру».
Заранее зная, что будет дальше, но всякий раз спотыкаясь об этот камень, Анна горячо уверяла: «Ты не умрешь, мамочка!» – «А ты откуда знаешь? Ты, что ли, Бог?»
Раньше она думала, что мамочка боится не смерти как таковой, а того, что умрет и оставит без присмотра вещи. Но после прошлогоднего случая, когда та не узнала бронзовую лампу с ангелом, Анне стало казаться, что мамочка, забыв о вещах, переключилась на содержимое своего огромного, в полстены, шифоньера, куда всю жизнь складывает всяческий никому не нужный мусор: магазинные чеки, ключи от несуществующих замкóв, разрозненные бусины от рассыпавшихся бус; тряпки, застиранные до полупрозрачности; бумажки, истершиеся на сгибах (в призрачной материной жизни эти клочки бумаги, пожелтевшие от времени, играют роль каких-то важных документов).
По вечерам, прислушиваясь к тихому шебуршанию в соседней комнате, Анна представляет – ясно, будто видит сквозь стекло, – как мать, выдвигая тяжелые скрипучие ящики, перебирает свои убогие сокровища, которые хранит как зеницу ока – притом что ее собственные зеницы меркнут.
Ключ от шифоньера мамочка держит при себе. В детстве Анна его видела: маленький, на длинной замызганной бечевке. Уходя из дома, мать вешала его себе на шею – как в общественной бане, где не полагается оставлять без присмотра ключи и ценные вещи; оставишь – украдут. Где она прячет его сейчас, Анна не знает, но до боли в сердце жалеет беспомощную, полуслепую старуху, которой осталась единственная радость – съесть что-нибудь вкусненькое.
Память об этой ежевечерней боли, ослабевающей в дневное время, дает ей сил безропотно сносить материнские капризы, сглатывать комки обиды и раздражения, разве что вздыхая украдкой, когда та, даже не попробовав, выносит приговор свежесваренному супу: «Опять капуста недоварена – жесткая», – и (не принимая дочерних оправданий: «Да как же жесткая, целый час ее варила») отодвигает от себя тарелку тем вздорным жестом, от которого на чистой клеенке остаются капустные ошметки и липкие жирные следы.
«В крайнем случае дам творог. С вареньем или со сметаной, как сама захочет…» – прикидывая, что она будет делать, если мать и сегодня откажется от супа, Анна заглянула в кухню и, обнаружив нетронутый – так и стоит накрытый полотенцем – чугунок, отправилась к матери с намерением ее пожурить: «Как же так, мамочка, надо кушать, иначе совсем ослабнешь…»
Открыла дверь и обмерла. Увидев, что мать сидит в кресле перед телевизором, но не прямо – затылком к засаленной подушке, а уронив на плечо маленькую голову, локти прижаты к подлокотникам, пальцы растопырены. Не в силах ни осознать, ни сделать шаг навстречу неизбежному, Анна стоит, переводя взгляд с седого, покрытого редкими волосиками затылка на мамочкины пальцы – и снова на затылок, будто ей надо выбрать что-то одно и принять за доказательст-во смерти; мелкая дрожь, сотрясающее тело, не дает сосредоточиться – взять себя в руки, обойти высокое кресло, заглянуть матери в лицо – словно проглотить ее смерть одним огромным куском.
Непроглоченный кусок встает поперек пищевода. Анна чувствует резкую боль, судорожно сглатывает – и в тот же самый миг, будто мать только и ждала, чтобы непутевая дочь выдала себя этой непроизвольной, рефлекторной судорогой, растопыренные пальцы вздрагивают и впиваются в подлокотники, маленькая птичья голова, отлипнув от плеча, принимает вертикальное положение – мать оборачивается к дочери морщинистым, словно сдувшимся лицом.
– Ну? И кто был прав? Фашисты орудуют! Ничего! – Она грозит кому-то сухоньким, крепко сжатым кулачком. – Дайте срок, погоним фашистского зверя с нашей ридной Украины! Задавим в его проклятом логове!
От этой безумной – воистину реактивной – речи Анна слабеет и, жалко вскрикнув: «Паша, Пашенька!», бросается к сыну; пытаясь объяснить ему, моргающему со сна, метаморфозу, случившуюся в голове его бабушки, она перескакивает с пятого на десятое: то про детский крем, который бабушка потребовала сегодня утром, то про нетронутый чугунок с овсяной кашей, то про каких-то, господи прости, фашистов, якобы захвативших бабушкину «ридну Украину».
– Погоди. Чо-то я не вкуриваю… – Окончательно проснувшись, сын поддернул пижамные штаны и направился к месту событий, но, послушав бабкины речи (к ужасу Анны, там появились еще и каратели, сжигающие мирные деревни и уводящие на расстрел ни в чем не повинных жителей), нисколько не испугался, а вроде даже обрадовался.
– Сильна бабка! Патриотка. За наших топит.
– Пашенька, сынок, кого топит, ну скажи ты мне, объясни по-человечески… Может, все-таки врача вызвать?
– Ты, это… погоди с врачом. – Павлик обводит комнату уже не сонным, а наоборот, собранным взглядом.
«Вырос мальчик. Совсем мужчиной стал», – с этой утешительной мыслью Анна идет на кухню, чтобы накапать себе пустырника или валерьянки, и, пока шарит по полкам, убеждает себя в том, что с врачом и правда успеется – а вдруг, поговорив с внуком, мамочка опомнится, преодолеет реактивное состояние…
Когда Анна, проглотив двойную порцию валерьянки, возвращается в комнату, она застает мирную сцену. Мамочка как ни в чем не бывало сидит в своем кресле, Павлик – на старом, растрескавшемся от времени диване. Мамочка о чем-то ему рассказывает.
– Сперва, – говорит, – свист. Тоненький такой! Как от фугаски. Когда на крышу падает. Да что я вам, доктор, объясняю! Вы небось лучше моего знаете. Помню, что ранило, а что было дальше… Не помню…
Стоя в двух шагах от смертельно напугавшего ее кресла, Анна напряженно прислушивается. Мало-помалу она догадывается, что речь о каком-то военном госпитале, мамочке кажется, будто ее доставили сюда после ранения. И сейчас, приняв внука за доктора, она спрашивает про операцию, которую ей вроде бы уже сделали, но зрение все равно не возвратилось; на что доктор отвечает: «Не было операции», – а она: «Разве не сразу делают?» – а он: «Бывает, что не сразу». А та ему не верит: «Как же, – говорит, – не было!» – А он: «Иначе наложили бы повязку». Осторожно взяв сухое, птичье запястье, Павлик водит кончиками бабушкиных пальцев по ее сморщенному от страха и старости лицу.
И что самое удивительное, это работает: мать прямо на глазах успокаивается – и хотя Анна совершенно уверена, что ни госпиталя, ни тем более ранения никогда не было, все равно она чувствует огромное облегчение: «Пусть уж лучше так, чем все эти крики про фашистов». Что называется, меньшее из зол. Анна думает: «Должно быть, Пашенька прав – главное в таких случаях не противоречить…»
Лишь поздним вечером, отойдя от пережитого – перехода от смерти к какой-никакой, но жизни, Анна вспоминает: когда мамочка посреди разговора, прямо на полслове задремала (но не ужасно, а обыкновенно: пару раз клюнув носом, уронила голову на грудь) и она потянула сына на рукав: мол, пора, дадим покой измученной старухе – эта самая старуха открыла один глаз, затянутый беловатой пленкой, и, усмехнувшись половиной сморщенного лица, подмигнула внуку.
А он обернулся от двери и подмигнул ей в ответ.
О том, что у нее родится мальчик, Анна узнала заранее. В районной женской консультации, куда она пришла, заметив странные перебои в работе своего женского организма, ей, как старородящей, настоятельно рекомендовали пройти специальный генетический анализ (побочным результатом которого стало определение пола ее будущего ребенка), но, как потом выяснилось, небезопасный, чреватый дурными последствиями, вплоть до самопроизвольного выкидыша, – так, во всяком случае, говорили опытные, бывалые женщины, с которыми Анна, благополучно произведя на свет Павлика, оказалась в одной послеродовой палате. Поводом для разговора послужил вопиющий случай – рождение младенца-дауна, слава богу, не у них, а на соседнем отделении.
Обсуждая эту печальную новость – к ним в палату ее принесла нянечка, тетя Дуся, – матери пришли к единому мнению, которое сама же тетя Дуся и сформулировала:
– Уж лучше выкинуть здорового, чем родить и повесить себе на шею урода.
Дня через два, когда страсти улеглись, тетя Дуся огорошила их новым известием:
– Отмучилась позорница. Отказные бумаги подписала – и всё, и хвост трубой. Ищи ее свищи.
Тут матери снова заспорили. Что страшнее: отказаться от больного урода и знать, что он, кровиночка, где-то там живет и мучается, или поставить крест на своей единственной жизни, что называется, принести себя в жертву?
В этом споре тетя Дуся участия не приняла. Только сказала:
– С генетикой с этой не поймешь… Бывает, отец с матерью молодые-здоровые, а черт-те что у них родится… А бывает наоборот. Уж какие из себя возрастные, а младенцы ихние мало что здоровые, так еще и горластые. Ох, не зря, видать, говорили: генетика эта – продажная девка империализма… С прозрачным намеком на жену кооперативщика, которой муж-богатей оплатил отдельную палату, где для них, для богатеев, созданы особые условия: электрический чайник, ежедневная смена постельного белья, а подкладные и вовсе без счета, сколько потребует, столько и извольте ей выдать; плюс ко всему прочему халат – свой, собственный, махровый, а не как у бесплатных матерей – фланелевый, казенный.
Когда на пятый день, ровно накануне выписки, горластый младенец вдруг взял и умер (не иначе сестры-засранки уронили – да теперь разве дознаешься), матери, от души посочувствовав, пришли к окончательному и непреложному выводу: от судьбы деньгами не откупишься, а тем более дорогими вещами; на то-де она и судьба, что хоть в пять, хоть в десять махровых халатов разоденься – все равно тебя найдет.
Когда Анна, ошеломленная тем, что услышала, слезала с кресла, все у нее в глазах расплывалось: белые стены кабинета, плакат о вреде искусственного вскармливания (на него, стесняясь своих ответов, Анна поглядывала украдкой, пока докторша, прежде чем приступить к осмотру, заполняла ее медицинскую карточку), белая фигура за столом, которая, беззвучно шевеля губами, о чем-то ее спрашивала. Пытаясь собраться с мыслями, Анна смотрела на эти губы – точно две маленькие гусеницы, они шевелились на пригорке подбородка, пока сама Анна, путаясь в мыслях и колготках, искала, но не находила ответа на главный, вернее, единственный вопрос: что она скажет дома?..
– Отец здоров?
– Отец? Он… умер.
Докторша нахмурилась:
– От чего?
– Я… я не помню…
Гусеницы, от которых Анна не могла оторвать глаз, вытянулись в тонкую улыбку.
– Не ваш. Ваш тут ни при чем. Отец ребенка.
– Ах… да, здоров.
Но то ли ответила не слишком уверенно, то ли докторша так и так бы ей не поверила и все равно предложила бы сделать анализ (чтобы, как она деликатно выразилась, «исключить любые генетические случайности») – так или иначе, Анна свое согласие дала. Главным образом потому, что привыкла доверять врачам.
Мать – иного Анна и не ожидала – приняла известие в штыки: задыхаясь, сводя на шее пальцы, будто ее душат, кричала хриплым, срывающимся голосом:
– Не понимаешь! Ни-че-го не понимаешь!
Не найдя лучших доводов, Анна залепетала про генетический анализ. Мать не дослушала, крикнула:
– Да что он, этот твой анализ покажет!
А поскольку терять ей было нечего, Анна не стала деликатничать, сказала, как сама это поняла, прямо:
– Болезни, которые передаются по наследству.
Ее слова будто вырвали шнур ярости из штепселя – мамочка села и заплакала (никогда ни до, ни после Анна не видела свою мать плачущей) – и с этого дня больше ни о чем не спрашивала: ни про результаты анализа, ни про отца своего будущего внука.
И потом, когда Пашенька родился (на удивление легко, даже нянечка, тетя Дуся, ее похвалила: как кошка-де родила) и Анна, вызвав по телефону такси, привезла его домой, мамочка – с неделю, а то и больше – делала вид, что ее это не касается. Бегая из комнаты в кухню и обратно то за соской-пустышкой, то за баночкой для сцеживания, Анна страдала молча.
Однажды, вернувшись из магазина, она застала мать у Павликиной кроватки. Склонясь над внуком, та вглядывалась в его красноватое сморщенное личико – так внимательно и пристально, будто что-то высматривала. И Анна поняла, что мамочка своих криков не забыла: «Боится, что я урода родила».
Видно, что-то такое высмотрев, мать сказала: «Молодец. Не в вашу породу», – Анна еще долго ломала голову, пытаясь понять, что значит «ваша порода» и кто из них двоих молодец – она или сын; и от этих горьких, как хлористый кальций, мыслей молоко у нее в груди сворачивалось. Маленький Павлик заходился в крике, худел с каждым днем, хоть косточки пересчитывай, – и если бы не банки со смесью, которые выдавали в поликлинике, датские, поступившие по линии гуманитарной помощи, так бы и угас. (Теперь, глядя на здорового, чуть не на голову выше нее парня, в этот страшный исход верилось с трудом.)
Бывало, мать посмотрит на Павлика и скажет: «Что-то волосы у него темнеют»; или – еще обиднее: «Глаза – как у китайца. Раньше вроде бы пошире были». Сдерживая себя, Анна отвечала примирительно: «Дети, пока растут, меняются. Павлик сто раз еще изменится», – но мать ее перебивала: «Не пори ерунды! Что родилось, то и вырастет», – не замечая, что противоречит сама себе. Впрочем, и волосы, и глаза – это еще цветочки. Ягодки созрели потом, когда выяснилось, что Павлик левша. И тут такое полилось, хоть стой, хоть падай: и что левши эти, дескать, слабоумные, а если не слабоумные – то коварные и злые, не зря их в Средние века сжигали на кострах.
Тут уж никакое сердце не выдержит. Стыдно вспомнить, как она кричала на мать. И что самое обидное, через неделю, буквально день в день (если б раньше, предъявила бы матери, сунула ей под нос), нашла в почтовом ящике брошюрку и, полистав из любопытства, обнаружила статью, в которой автор, оперируя бесспорными историческими фактами, опровергает замшелые мамочкины предрассудки, приводит целый список великих людей – как на подбор левшей. Юлий Цезарь, Наполеон, Леонардо да Винчи, Александр Македонский…
Хорошо, что мамочка ее простила. И, надо отдать должное, смотрела за Павликом, когда Анна, отсидев в декрете неполные полгода, вернулась обратно в школу, где пропадала с утра до вечера, взяв дополнительные полставки: троих, к тому же без алиментов, на ставку не вытянуть. Тем более когда вокруг сущее безумие: утром идешь – один ценник, после работы – другой; но мамочке разве объяснишь: то ей сосиски подавай, да не абы какие, а вкусные, то курочки свежей, мол, надоели ножки Буша — нет бы о внуке позаботиться, а то не ребенку лучший кусочек, а себе. Анна так себя не ведет: самое вкусное и полезное – сыну. Вот и сейчас, открыв холодильник, она отодвигает тарелку с жареной печенью, богатой витаминами и железом, необходимым молодому организму для укрепления иммунитета и выработки красных кровяных телец, и достает пару слегка заветренных сарделек – Павлик их терпеть не может, – чтобы разжарить с остатками вчерашних макарон.
Шевеля шкворчащие макароны, она возвращается мыслями к матери: смотреть – смотрела, но гулять с внуком отказалась: дескать, сил никаких нету «кулек этот твой» носить. Так и получилось, что лет до полутора Павлик гулял на балконе, лежал в коляске, пока не приноровился садиться – расстегивать ремешки. И тут уже опасно стало. А матери хоть бы что. Уперлась – ни в какую, пока «своими ногами не пойдет».
Своими – значит, крепкими. На молочных смесях не очень-то окрепнешь – и хотя пошел он сравнительно рано, но «своими ногами» лет с пяти. С этих пор мамочка с ним уже гуляла, но не в парке Победы – ведь, казалось бы, от дома рукой подать, – а на дальнем пустыре, проплешине между сталинскими домами. В брежневские годы ее грозились застроить, да так и не собрались.
В редкие дни, когда Анна не пропадала на работе, она, стоя у кухонного окна, наблюдала, как маленький Павлик тянет бабушку за руку, надеясь затащить ее в парк, где играют дети, а потом, понурив голову, идет за ней к пустырю, где нет ни песочницы, ни детей, ни качелей.
Со временем привык – больше не тянул. Даже отказывался, если Анна, гуляя с ним в свой единственный выходной, предлагала: «А давай пройдемся по парку», – супился и глядел исподлобья: «Не. Не пойдемся. Баба не велит».
Спросишь: почему? – молчит.
И добро был бы послушным мальчиком – так нет. Стоило бабке, перенося свой материнский опыт на внука, стукнуть кулаком по столу: «Поел – марш к себе», – он, вскинув голову и выпятив подбородок, шипел ей в лицо: «С-сама малс-с, з-злая матиха!»
Понятно, что не сам придумал, а почерпнул из сказок – но ведь и вправду уходила: сгорбившись, шаркая войлочными тапками. И Анна, если оказывалась свидетелем, строго, по-учительски, выговаривала сыну: «Нельзя так разговаривать с бабушкой», – а сама, глядя матери вслед, ее нисколько не жалела, чувствуя себя отмщенной за свои детские горькие вечера.
Против тех вечеров, пахнувших ее сухой кожей (пока не научилась читать, она сидела у себя в комнате, положив голову на руки), Анна восставала, читая ребенку вслух.
Наряду со сказками в круг ежевечернего чтения входили стихи – сначала детские из книжек с цветными картинками; когда сын немного подрос, пришла пора настоящих, из потрепанного, с пожелтелыми страницами сборника, который Анна получила в подарок в тот далекий счастливый день, когда ее, одну из первых в классе, приняли в пионеры: Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя, – и еще одно, от которого растапливались ее сухие ладони: Я стреляю – и нет справедливости справедливее пули моей! – этот жар ей хотелось передать сыну.
В такие минуты Анне представлялось, будто она и сын – единое целое.
Однажды, мотнув головой, сын прервал ее взволнованное чтение:
– Неправильно читаешь. Дай. Я сам.
На том и завершилось. Сам Павлик не читал.
Пытаясь пробудить интерес ребенка к военной тематике, Анна приносила из школьной библиотеки книжки про пионеров-героев, которыми зачитывалась в детстве (воображая себя то Зиной Портновой, юной партизанкой, опознанной предателем; то Галей Комлевой, разведчицей, снабжавшей партизан всякими важными сведениями; то Ниной Куковеровой, разбрасывающей советские листовки в оккупированном врагами родном селе), – но все эти мальчики и девочки оставляли Павлика равнодушным.
Равно как и Аннины воспоминания о том, как ее вместе с классом водили к стоматологу и она, терпя невыносимую боль, представляла себя советским партизаном-подпольщиком, над которым глумятся проклятые фашисты: высверливают здоровые зубы.
Выслушав ее рассказ, сын пожал плечами:
– Не могла, что ли, им сказать, пусть бы заморозили.
Но это бы еще ничего. Куда больше тревожило другое.
О проекте
О подписке