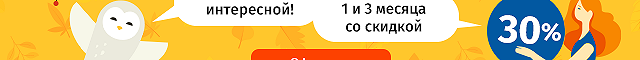
Никита послушно отвернулся и пробормотал, уставившись в стенку:
– Ей-богу, никому не открою дверь!
– Побожился? – донесся сдавленный голос.
– Все в порядке, – отозвался Никита и отправился к дверям, от которых несся очередной звонок.
Между прочим, дедушка-суседушка совершенно напрасно заставлял Никиту божиться. Потому что не только за какие-то там коврижки, но и вообще за все сокровища мира он не открыл бы двери тому кошмарику, которого разглядел в глазок!
От облика прежнего маленького, добродушного дедули ничего не осталось. Косматый, желтолицый, морщинистый, огромный старик маячил за дверью! Одет он был в бесформенный черно-серый (такое ощущение, что изрядно подернутый плесенью!) балахон, а на шее висели какие-то погремушки типа древесных корешков и просверленных камушков.
Его узкие черные глаза, чудилось, прожигали дверь насквозь. Из косогубого рта вырывалось не то рычание, не то шипение:
– Впусти меня! Приюти! Обогрей! Сил нет! Сейчас упаду да помру! Слабый я! Старый! Смилуйся!
Если бы Никита решил задавать вопросы, так сказать, по теме, первый был бы такой: раз вы, дедушка, такой старый и слабый, как говорите, отчего не постучали в какую-нибудь дверь на первом этаже, а поперлись аж на пятый, вдобавок без лифта? А во вторую очередь Никита спросил бы: кто ж просит о помощи таким злобным, угрожающим голосом?!
Впрочем, ни вопросы задавать, ни в какие-то разговоры пускаться с этим ужасным стариканом Никита не стал. Он просто повернулся – и дал деру прочь от двери.
Стало страшно! И даже не жуткая морда, которую он увидел в глазок, напугала Никиту, а то, что на площадке находился еще кто-то, кроме черного старика. Этот неизвестный то ли за спиной старика прятался, то ли вообще внутри него сидел!
Как это могло быть?! Никита не знал…
И еще… На площадке металась и плясала тень старика.
Эта тень была без головы!
Что, опять показалось? Не много ли нынче кажется?!
Вбежал в кухню. Дедка-суседка так к нему и бросился:
– Ну что? Видел? Каков он?
– Ужас… – еле смог пошевелить губами Никита.
– Вот! – зачем-то погрозил ему пальцем дедок. – А я что говорил! А ты божиться не хотел!
– Он кто такой, этот?.. – Никита помахал руками вокруг головы, изображая косматые волосы.
– Сам толком не ведаю, – вздохнул дед. – Знаю лишь, что нечисть злая, могучая! Я и сам, известное дело, нечистик, но мои проказы с евонными и равнять нельзя.
– Вы нечистик? – озадаченно нахмурился Никита. – В каком смысле?
– Говорено же тебе – суседка! Дедушка-суседушка! – повторил старик. – Неужто не понимаешь?
Никита поднял было плечи – пожать ими, – да так и остался стоять в этой позе, потому что грохот, раздавшийся из прихожей, заставил его окаменеть от ужаса.
Стучали в дверь. Нет, стучали – это не то слово!
В нее колотили так, словно хотели вышибить из косяка! Ломились яростно, и диву можно было даваться, что никто из Никитиных соседей не выскочил на площадку и не накричал на нарушителя ночного спокойствия.
Не исключено, что кто-нибудь все же высовывался. Но увидел эту жуткое существо – и счел за лучшее убраться в свою квартиру и запереться на все замки.
Конечно, могли бы в полицию позвонить или в МЧС…
А может, позвонили – и сейчас примчится наша кавалерия?
Как бы она не опоздала. Дом, честное же слово, вот-вот развалится!
– Чего ж это я стою колом? – вдруг спохватился дед. – Пора спасаться! Не то костей не соберем! Пойдут клочки по закоулочкам!
Он пошарил по карманам своих потертых штанов, попрыгал, потряс руками – и вдруг отовсюду на пол посыпалось сено. Похоже было, что перед тем, как наведаться к Никите, этот дедушка-соседушка долго лежал на каком-то там сеновале, вот сухая пахучая трава и набралась ему в карманы, в рукава, за пазуху и даже – Никита не поверил глазам, когда понял, во что был обут его ночной гость! – в лапти.
Потом старик проворно собрал сено – до последней травиночки! – закрутил его в тугой пучок, подсунул к горящей газовой горелке – и с этим маленьким факелом в руках со всех ног кинулся в прихожую.
Никита – за ним.
Честно говоря, он решил, что дедок сейчас бросится сражаться с этим ужастиком, который колотил в дверь. Типа, огнем пугать его будет. Хотя сначала понадобилось бы отпереть все замки и засовы, на которые дверь была заперта. А это, честно говоря, легче было сказать, чем сделать!
Однако дедка и в мыслях не держал кидаться в драку. Он подскочил к двери и принялся обводить ее горящим пучком сена. И над полом проводил дымную полосу, и под потолком, подпрыгивая при этом так высоко, словно был не древненьким старичком, а каким-нибудь резиновым мячиком с повышенной прыгучестью.
Никита стоял разинув рот и изумленно замечал, что стук в дверь становится все слабее и слабее, а потом и вовсе тишина наступила. В этой тишине вдруг раздался какой-то свистяще-шелестящий звук, как будто что-то пролетело по лестничной площадке – да и унеслось на нижние этажи. А потом Никита расслышал, как внизу грохнула дверь подъезда.
Дед облегченно вздохнул, смахнул пот со лба и сунул тлеющий жгут сена в карман штанов.
Никита аж ахнул – дырку ведь прожжет! – но ничего такого не случилось.
Это было удивительно, как, впрочем, и все, что здесь происходило.
Но, честно говоря, Никита не очень-то активно удивился. Спать вдруг захотелось ужасно! Ну просто хоть падай прямо на пол в прихожей!
Только как с этим дедом-соседом-не-соседом быть? Хорошо бы ему повежливей намекнуть, что ночь не лучшее время по гостям ходить…
– Пора двигать отсюда, покуда эта тварюга не надумала возвертаться, – проворчал дедок себе под нос и оценивающе оглядел Никиту: – Ну что, мэргенушко-шаманушко? Обувка у тебя крепкая? Ты кожушок какой-нито накинь да треухом не забудь головушку накрыть. Небось не лето на дворе!
– А зачем мне одеваться? – спросил Никита, так страшно зевая при этом, что сам ни слова из того, что сказал, не понял.
А вот незваный гость, как ни странно, все отлично понял! И ответил:
– Затем, что пора нам в путь, мэргенушко!
После этих слов старик подскочил к Никите – и вдруг мягко прикрыл ему лицо своей морщинистой волосатой ладонью.
– В дальний путь пора, шаманушко! – успел еще услышать Никита – и задохнулся от резкого запаха сена.
* * *
– Гаки, намо́чи горо! Гиагда горо, чадоа!..
Никите снилась песня. Снился женский голос – сизый, прохладный, плавно переливающийся, как амурская волна ясным осенним днем. Голос то блуждал в тайге, то взмывал к вершинам синих сопок[1], то исчезал на дне реки, то снова появлялся, качаясь на волнах.
Голос был знакомый. Никита знал, что слышал его раньше! Он вырос под этот поющий голос! Вырос под мамины песни! И под эту песню! Человек говорит: «Ворон, до моря далеко!» – а тот смеется: «Пешком далеко, а я уже там!»
Никита знал, что нельзя просыпаться, ведь мамин голос утихнет! – но ничего не смог с собой поделать – и проснулся.
Однако родной голос по-прежнему выпевал:
– Гаки, намо́чи горо! Гиагда горо, чадоа!..
Никита открыл глаза и увидел над собой низкий бревенчатый потолок.
Что еще такое?!
Суматошно огляделся.
Тут не только потолок бревенчатый! Кругом такие же стены с аккуратно проконопаченными пазами. В одной стене вырублено небольшое окошечко, в нем пыльное, мутное, треснутое стекло.
Над дверью прибита медвежья лапа с пятью растопыренными когтями.
Никита приподнялся и обнаружил, что полулежит на низкой деревянной лавке. Она была застелена звериными шкурами, вытертыми до пролысин. На них Никита и лежал – одетый, даже в куртке и лыжной вязаной шапке, обутый в незашнурованные кроссовки.
А мама где?!
Никита соскочил с лавки и, путаясь в шнурках, выбежал, сильно толкнув тяжелую разбухшую дверь, на крыльцо.
Призрачно синели дальние сопки, многоцветно сияла под солнцем осенняя тайга, а чуть ниже, под небольшим крутояром, весело скакала по камням прозрачная узенькая, но бурливая речка, вода которой струилась и переливалась под солнцем.
На другом бережку стояла мама. На ней была клетчатая рубашка и джинсы, заправленные в сапоги до колен. Длинная коса переброшена на грудь.
Мама поигрывала ее распушившимся концом и смотрела на Никиту.
Он ясно видел ее лицо: смуглое, круглое, с маленьким улыбчивым ртом, с тонкими, поднятыми к вискам бровями, с длинными узкими глазами, которые сияли такой нежностью, что Никита чуть не заплакал.
Как давно он ее не видел! Как соскучился по ней!
Почему все говорили, что мама умерла? Она живая! Вот она!
Никита спрыгнул к речке, перебежал ее по камешкам, схватил маму за руки, заглянул в ее глаза…
И тут вдруг настал миг какого-то помрачения, после чего Никита вновь обнаружил себя на крыльце избушки. Стоял, уткнувшись в пахнущую сырой древесиной дверь.
Оглянулся – мама медленно поднималась на сопку, словно бы таяла в сумраке тайги.
Никита бросился вдогонку. Снова спрыгнул на берег, снова перескочил через речку, но поздно – вокруг сгустились таежные тени, сквозь которые ничего не разглядишь.
Где мама? Куда скрылась?!
Никита бросился было в тайгу, как вдруг раздался хриплый голос:
– Погоди, мэрген. В тайге беда. Заблудишься – пропадешь. Не ходи в тайгу. Иди сюда. К нам иди.
Никита повернул голову.
На взгорке, на противоположном берегу речушки, стояли старые-престарые дома – обветшалые, перекошенные от времени и непогоды.
Видимо, раньше здесь была деревушка. Но теперь от улиц не осталось и следа. И улицы, и огороды сплошь заросли сорняками, да так, что напоминали джунгли. Заборы где обрушились, где еще держались на честном слове. Некоторые крыши были подняты деревьями, проросшими сквозь дома.
Только одна избушка выглядела пристойно. Перед ней простиралась выкошенная лужайка на самом краю берега. На лужайке были сложены старые, потемневшие от дождей и времени бревна.
Вот на этих-то бревнах сидели два старика и приглашающе махали Никите.
Он побрел к ним, иногда оглядываясь на лес.
Перешел речку, поднялся на взгорок, уставился на стариков, пробормотав неуклюжее «здрасте» непослушными, дрожащими губами.
Один старик был худощавый, круглолицый, с редкими седыми волосами, собранными в косицу. Смуглое, будто бы прокопченное лицо изрезано множеством морщин. Тяжелые веки почти прикрывали узкие глаза. Это был, конечно, нанаец, старый нанаец, одетый в засаленный халат мутного, неразличимого цвета и обутый в поношенные торбаса[2].
– Бачигоапу, лоча мэрген, – сказал он скрипучим голосом.
Эти слова Никита знал. По-нанайски это значит – здравствуй, русский богатырь.
– Бачигоапу, – ответил он с трудом, потому что в горле першило.
– Ветер сильный, да? – спросил старик. – Слезу вышибает?
Никита торопливо вытер глаза.
Не было никакого ветра. При чем тут вообще ветер…
– Беда, какой ветрило! – подхватил другой старик, на которого Никита в первую минуту не обратил внимания. А теперь взглянул на него – и ахнул, потому что это был тот самый дедка-суседка, пахнущий свежим сеном, который минувшей ночью наведывался в Никитину кухню, а потом прогонял ужасного гостя… этот гость чуть дом по камешку не разнес!
И тотчас Никита вспомнил мягкую ладонь, прижатую к своему лицу, усыпляющий запах сена…
– Чудится мне, что ли? – пробормотал Никита.
– Прежде больше чудилось, – отозвался дедка. – Народ был православный, вот сатана-то и сомущал!
– Сатана?!
– Ну, сила нечистая. Мы-то вон кто? Нечисть, нежить – одно слово!
– Вы?! – невежливо ткнул пальцем Никита.
– Агаюшки, ага, – закивал тот. – Забыл? Я ж тебе говорил: мол, нечистик я. И он такой же, дзё комо. Слышь-ко, дзё комо, – обратился он к узкоглазому старичку, – наш-то мэрген ничегошеньки не понимает, а?
– Не понимает, однако, – согласился тот уныло.
– Неужто мы с тобой промашку дали? – всплеснул руками дедка.
– Дали, однако, – вздохнул второй старик.
– О чем вы тут говорите? – не выдержал Никита. – Где моя мама? Как я сюда попал? Что это за место?
– Деревенька, вишь ты, стояла здесь в старину. – Дедка повел вокруг рукой. – Деревеньку Завитинкой называли, а речку – Завитой. Прежде шире была, бурливей, а теперь шагом перешагнешь – иссохла. С тоски, может? Жили, да… Скотина велась. Лошадушки… Ах, какие были лошадушки! – чуть ли не простонал он. – Мужики зверя били, шишковали, ягоду брали, грибы. А рыбы-то сколько лавливали! Крепко, хорошо обжились. А потом парни да девки из родных домов в другие края подались. В камнях нынче живут, родительских свычаев и обычаев не чтят. Старики кто к детям уехал, кто помер. Обветшали избешки, развалились. И никто доможила не покличет: «Дедушка домовой, выходи домой!» Брожу я ночами по улочкам опустелым, филинов да нетопырей пугаю кликом-плачем… – И дед залился мелкими слезами, утираясь рукавом заношенной рубахи.
Никита смотрел на него, вытаращив глаза.
Домовой?! Так вот в каком смысле он называл себя нечистью!
Ну да, всякие там черти, домовые, лешие, водяные, банники и впрямь называются нечистой силой.
Да нет, этого просто не может быть…
Или может?
Наверное, может. Каким-то ведь образом Никита здесь оказался! Не пешком пришел, не на самолете прилетел. Его определенно перенес дедка.
Дедка-домовой.
Но зачем?!
– Зачем вы меня сюда притащили?! – воскликнул он отчаянно.
Заговорил другой старичок, который назывался дзё комо:
– Давным-давно тут недалеко стойбище[3] стояло издавна. Тайга большая, всем места хватает. Дедушка тигр живет, медведь живет – он как человек все равно, – косуля живет, лесные люди тоже. Лоча – русские пришли, и они жить стали. Тайга большая! Хорошо было… Русские на счастье лапу медвежью прибивали, хэдени[4] – подкову. Все было по-соседски. Ой-ой-ой, давно это было. Дзё комо в каждой юрте жил, в среднем столбе.
– Дзё комо тоже домовой? – перебил Никита.
– Ежели по-нашему, по-русски, – конечно домовой, – кивнул дедка-суседка. – Мы же одним делом с дзё комо занимаемся – жилье человеческое оберегаем.
«Товарищи по работе, – сообразил Никита. – И еще есть такое слово – коллеги… Домовой и дзё комо – коллеги!»
Он непременно засмеялся бы, да вот беда – смеялку заело туго-натуго.
И ничего удивительного!
– Дзё комо – душа дома, душа счастья, – продолжал «коллега» домового. – Комо большой – значит, хозяин его богатый, комо маленький – хозяин бедный.
Никита смерил старичка взглядом.
Дзё комо кивнул:
– Да, мой хозяин не шибко себе богатый был. Однако ничего, хорошо жили. Ой-ой-ой, давно это было! – Голос его задрожал. – Даже тени тех, кто жил здесь когда-то, исчезли. Столбы у вешал для неводов покосились, сгнили… Молодые ушли! Заветы предков забыли! Даже от наследственных шаманских даров отказываются! В каменных стойбищах, как и русские, живут. Тайга им чужая. Раньше как было? Человек в тайге живет – человек тайгу бережет. Теперь человек в тайге не живет – из тайги только забирает. Злой человек стал. Все равно как росомаха! Норовит даже дерево Омиа-мони погубить!
Никита хотел возмущенно заявить, что все эти истории, конечно, очень интересны, но на его вопросы – как и зачем он сюда попал и где мама – никто и не думает отвечать. Однако не успел ни возмутиться, ни заявить.
Домовой и дзё комо вдруг насторожились, испуганно огляделись. Потом вскочили, поддерживая друг друга.
Дзё комо торопливо проговорил:
– Я камлал, в большой бубен бил, у костра плясал, как шаман все равно. Духи сказали: в каменном стойбище русский саман-гэен[5] живет. Он поможет сохранить Омиа-мони от той росомахи, которая к священному дереву нечистые руки тянет…
– Дзё комо, батюшка ты мой! – перебил его домовой голосом, похожим на всполошенный птичий крик. – Идет! Уже близко!
– Бежим! – испуганно закричал дзё комо. – Скорей-скорей!
Старички опрометью кинулись к избушке, однако, к изумлению Никиты, сделав каких-то два шага, бестолково затоптались на месте.
Видно было, что они напрягают все силы, чтобы убежать, но не могут. Лужайка под их ногами была словно намагничена!
– Вот вы где! – раздался громовой голос. – Вот вы где, гнилые рыбьи потроха!
Старички аж к земле приклонились от этого крика, а Никита резко обернулся… видно, слишком резко, потому что аж вокруг своей оси повернулся. И еще раз, и еще! Как начал крутиться – так никак не остановится.
Все летело вокруг бесконечным хороводом: лес, избушка, заброшенная деревня, река, снова лес, избушка – и снова, снова то же самое… Аж в голове помутилось и тошнота подкатила к горлу!
Внезапно Никита остановился, зашатался, потом его повело в сторону – и он повалился на холодную пожухлую траву, хватая ртом воздух и с трудом пытаясь отдышаться.
Ну да, в космонавты его точно никогда не возьмут. С таким вестибулярным аппаратом Никита даже на карусели не катался – тошнило на первом же круге. А тут будто в центрифугу его сунули!
Повернулся вниз лицом, зажмурился, мучительно сглатывая и сдерживая подступающую рвоту. Ничего, вроде полегче стало. Но еще не скоро Никита смог поднять отяжелевшую голову и осмотреться.
Бедные старички-домовые все еще продолжали свой бег на месте! Видно было, что они совсем выбились из сил. Дышали с трудом, то и дело вытирали лбы.
– Ну что? – громко захохотал кто-то. – Ой, как худо? Уморились, помет дохлой птицы, вонючая лягушачья икра? Больше не посмеете меня ослушаться?
Бедные старички замотали головами, что-то жалобно лепеча.
До Никиты донеслось:
– Ой-ой-ой! Хозяин горы, Владыка тайги, помилуй нас!
Потом послышались всхлипывания. Домовые – что русский, что нанайский – молили о пощаде. Но кого?
Сколько Никита ни оглядывался, он никого не видел.
– Что, пиктэ? Не понимаешь ничего? – спросил презрительный голос.
И только тут до Никиты дошло, что этот неведомый и невидимый, которого домовые называют хозяином горы и тайги, говорит по-нанайски! И Никита все понимает!
Мама иногда учила его своему родному языку. Однако за тот год, когда ее не было рядом, Никита почти все забыл. А сейчас понимал каждое слово! Например, он сразу вспомнил, что «пиктэ» означает «малыш, деточка».
Это он – пиктэ!
Довольно-таки оскорбительное обращение к человеку тринадцати лет от роду. Все равно что назвать его глупым младенцем!
Следовало, конечно, ответить чем-то подобным, однако Никита не успел: за спиной что-то вдруг засвистело, словно вихрь пронесся… но это оказался никакой не вихрь, а огромный черный медведь с необычайно ехидной и хитрой, словно у лисы, мордой.
Из-за этого он выглядел как-то особенно жутко и противно!
Вдобавок у него было три горба…
Никита онемел от ужаса и только и мог что пялить глаза на этого зверюгу, который увесисто и тяжело протопал на задних лапах к крыльцу и схватил за шкирку обоих домовых: и русского, и нанайского.
При этом они вдруг непонятным образом уменьшились в размерах. Вот только что были старички как старички, только очень уж странненькие, а теперь – ну будто какие-то куклы!
Потом медведь размахнулся – и швырнул домовых в сторону, да еще и прокричал при этом:
– Бокта-бокта, бонгари-бонгари! Кубарем, вдребезги!
Бедняги исчезли – только жалобный крик донесся откуда-то издалека. А потом медведь воздел лапы, провел ими по своей морде, по туловищу, да с такой силой, словно хотел свою черную шкуру с себя содрать!
Никита аж передернулся от отвращения! Но тут шкура и в самом деле с медведя сползла, а под ней… а под ней оказался тот косматый и желтолицый, морщинистый и огромный старик, которого Никита совсем недавно видел перед своей дверью!
Впрочем, при ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж стариком. В черных волосах ни сединки, лицо сморщила злобная гримаса, а не годы. Однако на нем по-прежнему был бесформенный черный балахон, а на шее болтались погремушки из древесных корешков и просверленных камешков. Взгляд этих черных глаз был, как и раньше, жгучим и свирепым, но, странное дело, прежнего ужаса перед ним Никита уже не испытывал.
О проекте
О подписке
