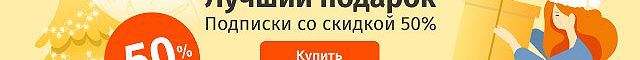
Рихард усмехнулся, но ничего не ответил.
– Мы даже не поговорили с вами про то, что случилось у меня на чердаке… – сказал я.
Теперь-то я и сам понимаю, что ошибся, – нельзя было упоминать про чердак. Но слова вылетели и все испортили.
– Не стоит говорить, – сказал Рихард. – Это был просто случай. Просто случай. Знаете, лучше бы вам действительно от меня отцепиться. Честное слово. Спасибо, что попытались. Да еще и бесплатно…
Мы замолчали. Я уже понял, что проиграл и что разговор окончен: он никогда больше не придет ко мне. Самым уместным было бы сейчас как можно быстрее попрощаться и уйти.
– Ну что ж, тогда до свидания? Мы закончили?
В глазах Рихарда вдруг мелькнул страх.
– Ну, наверное, я, вообще-то, мог бы заглянуть к вам еще разочек… – неуверенно сказал он.
Я знал, что он позарез во мне нуждается: он был по-настоящему одинок в этом мире, а я был единственным, кому он интересен как есть – злой, неудобный, отталкивающий, со всеми безрадостными рассказами, неуместными и неправильными чувствами, глупостью и болью.
К этому я прибавил бы и то, что мой возраст в его восприятии примерно соответствовал отцовскому, и это обстоятельство могло наделять наши отношения дополнительным содержанием.
Но если все это так, почему он бросил терапию? Это оставалось для меня загадкой.
– Смысл? – спросил я.
– Наверное, чтобы вывести вас на чистую воду, – усмехнулся он.
– Зачем вам это?
– Ну, любопытство… Чтобы помешать вам обманывать людей.
– Что вам эти люди?
– Вы правы – люди меня не волнуют. Пусть обманываются. Мне, наверное, самому интересно.
– Ну что ж, можем друг друга поздравить: у каждого есть интерес.
– А ваш? Он в чем?
– Наверное, хочу доказать себе что-то. Увидеть, что я сильнее вашей проблемы. Хочу победить.
– Но вы рискуете проиграть.
– Возможно. Я готов получить то, что мне полагается.
Рихард молчал. Он уже почти готов был сдаться, но какая-то часть его личности продолжала зло и упорно сопротивляться идее возобновления терапии. Поэтому когда в его голову пришла новая идея, которая могла все разрушить, он с радостью за нее ухватился, и я заметил, что лицо его ожило и озарилось.
– Вам, наверное, не слишком нравилось, что я встречался с вашей дочерью?
«Ах, вот оно что? Да, тут у него шансы есть…»
– С чего такое предположение? – осторожно спросил я.
– Аида рассказала.
– Да, мне не нравилось, что вы встречались, – честно ответил я.
– Вы же профессионал – вы видите меня насквозь. Вы наверняка уже поняли, что я неблагодарное животное. Могу укусить руку дающего. Если мы возобновим терапию, я снова буду видеться с Аидой. Только вы можете защитить от меня свою дочь.
Я растерялся. Разумеется, мое существо яростно противилось отношениям радостной, лучистой, легкой Аиды с этим мрачным тяжелым мешком с психологическими проблемами. Я не хотел, чтобы она тащила этот мешок на себе. А еще я понимал, что, если их отношения возобновятся, шансов на вмешательство у меня будет очень мало – Аида просто не станет меня слушать.
Этот парень ставил меня перед ужасным выбором.
Но если мои благородные попытки приведут к тому, что он согласится продолжить терапию, тогда получится, что я готов заплатить за это сомнительное предприятие своей дочерью Аидой, притом добровольно. А он, благородный сказочный рыцарь, желающий спасти принцессу, сейчас по-хорошему меня об этом предупреждает.
Разумеется, я сразу же отверг навязанный выбор. Пусть подыхает, разговор окончен.
Когда я понял, что принял решение, мне стало легче. Я не спасатель. Зачем вообще я цепляюсь к этому парню? Что за бес в меня вселился?
Теперь, отдыхая наконец от самого себя в тихом саду посмертного спокойствия, я размышляю, что в те дни следовало поговорить с Манфредом, и тогда могло бы выясниться, что я вовсе не единственный человек на планете, кто мог бы помочь Рихарду. На каком основании я назначил себя на эту роль?
А еще могло выясниться, что Рихард вовсе не нуждается в моей помощи и нисколько не балансирует между жизнью и смертью, а значит, я назначил себя великим благородным спасателем совершенно безосновательно, и в этом случае идея оплаты за его терапию с помощью так называемого счастья моей дочери выглядит не только бессмысленной, но и абсурдной.
Не говоря уже о том, что Рихард и Аида, как ни парадоксально, могли оказаться друг с другом вполне счастливы, а значит, никакая это была бы не расплата, а наоборот.
Но я, должно быть, по каким-то причинам не хотел осознавать все это. Поэтому я и не пошел к Манфреду. Ну а если я не пошел к Манфреду, тогда какой смысл впоследствии удивляться, что эсэсовские ботинки Рихарда будут бить меня по голове, когда я буду лежать поперек пыльной сельской дороги?..
Как только я окончательно и бесповоротно утвердился в решении, что с терапией Рихарда навсегда покончено и тянуть его канатами к счастью я больше не буду, мой рот, к изумлению моих ушей, вдруг произнес:
– Ваш день – вторник. Время прежнее.
Вот так. Сказал и не поперхнулся. Рихард растерянно смотрел на меня. Он понял, что утратил последнюю надежду на то, что действительно никому не нужен.
Я поперся по улице со своей дурацкой безымянной рыбой. Рихард растерянно смотрел вслед. Уверен, что такого идиота он видел впервые в жизни.
Рыба, которую я нес, была большой и тяжелой. Каждую минуту она стремилась выскользнуть из бумаги – мне приходилось постоянно ее перехватывать, и это было ужасно неудобно. Как их носит Рахель? Почему у рыбы на спине не предусмотрена какая-нибудь ручка – например, как у чемодана?
Согласитесь – уже сто тысяч лет главенствующим биологическим видом на нашей планете является человек. Численность любого другого вида на Земле, будь то корова или курица, зависит только от того, насколько любезна она человеку. Если человеку нравится корова с большим выменем, будут выживать только те коровы, вымя у которых огромно. Человеку нравится курица, которая сносит по яйцу в минуту? Теперь у нас только такие курицы.
А лично мне нравится рыба, у которой на спине ручка, – чтобы нести, легко помахивая ею, как чемоданчиком или портфелем. Почему до сих пор не выжили только рыбы с ручками?
В этот момент я понял, что природе безразлично, откуда взялись факторы, к которым должен приспособиться биологический вид – главное, чтобы он к ним приспособился. Если возникнут условия, при которых будут выживать только удобные для транспортировки евреи с ручками, эволюции будет все равно, по каким государственным законам все теперь хотят только удобных евреев и почему никто не хочет неудобных. И тогда рано или поздно начнут рождаться евреи с ручками.
А что, если этот процесс уже идет и мы просто не замечаем его? Перехватив скользкую рыбу в другую руку, я пощупал у себя за спиной – между лопаток. Рука дотянулась с трудом, но стало ясно, что никакой ручки там еще нет. Я с беспокойством оглянулся по сторонам, и мне, признаться, стало страшно: я ведь понимал, что новые расовые законы предполагают евреев с ручками. Тот факт, что я еще без ручки, делает меня недостаточно удобным, а значит – снижает мои шансы на выживание.
Однако уже в следующее мгновение я решил, что мир вокруг прекрасен и данную ситуацию я по непонятной причине всего лишь драматизирую – никто евреев никуда не перемещает и ручку нащупывать пока еще рано.
Я оглянулся по сторонам, и то, что увидел, прекрасно этот взгляд подтвердило: на подоконниках буйно росли цветы, откуда-то доносилась приятная музыка, за столиком уличного кафе две милые старушки пили кофе и кормили птичек, а неподалеку от них элегантный мужчина цветами встречал женщину, пришедшую к нему на свидание. В стороне от улицы располагался парк больницы: там росла мягкая пушистая травка, на скамеечках грелись на солнышке пациенты и мирно читали газеты с последними новостями…
* * *
Если исходить из того, что позже рассказал Тео, он в тот день лежал голышом в широкой двуспальной кровати в номере маленькой гостиницы по улице Штайндамм в Гамбурге, а рядом с ним лежал его друг Курт – Тео был знаком с ним уже более двух месяцев.
Курт моложе Тео, он работал моряком на рыболовном судне и выглядел как простой крестьянский парень – он казался Тео простым, естественным, радостным, а также уверенным в себе и всегда спокойным. Тео рядом с ним казался самому себе каким-то изломанным, тревожным, несчастным, затравленным и подавленным.
Тео выше Курта, однако по росту они казались одинаковыми: у Курта спина прямая, а Тео сутулился – вот что их уравнивало.
Фигура Курта казалась Тео более крепкой, гармоничной и привлекательной, чем его собственная, – своей фигуры Тео стеснялся: он казался себе слишком тонким, бледным, нежным. В отличие от Курта, он никогда не позволял себе расхаживать по гостиничному номеру голышом, а если раздевался и ложился в их кровать, то делал это быстро и сразу же прятался под одеялом.
Фигура Курта – более уверенного в себе и мускулистого, чем Тео, – больше отвечала стереотипу государственной пропаганды: везде рисовали именно таких, как Курт. В парках стояли скульптуры с подобными фигурами – в крепких руках с рельефными венами они держали флагштоки, ружья, шестеренки.
А такими, как Тео, чаще рисовали евреев. В каждой газетной карикатуре, в каждом сутулом худом еврее Тео видел себя. В конце концов он оказался этими карикатурами так затравлен, что ему стало чудиться, будто все окружающие тоже видят в нем еврея – даже когда он просто идет по улице.
Евреи, разумеется, были разными – и толстыми, и румяными, и крикливыми, и уверенными в себе, но все это не имело для Тео никакого значения – один проклятый образ из газеты, случайно попавшейся ему в руки, до такой степени пронзил Тео, до такой степени напомнил ему самого себя, что с тех пор Тео находился в постоянном страхе и каждую минуту ждал разоблачения.
Каждому прохожему Тео хотел доказать, что он не еврей. Но он не знал как. У евреев были желтые звезды, а у Тео не было, но отсутствия желтой звезды недостаточно. Тео ловил на улице случайно брошенный взгляд, терялся и понятия не имел, можно ли этому взгляду что-то противопоставить.
Чувство беспомощности угнетало и злило. Он думал о том, что государство должно как-то защитить его от подобной ситуации – например, если есть желтая звезда, наряду с ней должна быть какая-то антизвезда, какой-нибудь белый крест, например, или свастика – люди могли бы нашить их на себя добровольно, а также иметь в кармане подтверждающий сертификат. И тогда, взглянув на такого человека на улице, никто уже не подумал бы, что он может оказаться евреем – даже если худой и сутулый.
Некоторые гражданские по собственной воле носили повязку со свастикой поверх рукава пиджака или значок в петлице, но Тео этого не хотелось – ему больше подошел бы какой-нибудь простой и скромный знак арийской этнической принадлежности, а не слишком яркий и кричащий знак принадлежности политической – подобная принадлежность, по его мнению, более подходила толстошеему варварскому простонародью с крепкими кулаками – Тео не хотел ассоциировать себя с бездумно боготворящими фюрера простолюдинами с одной извилиной в голове.
Постоянный страх и напряжение так утомили Тео, что он ужасно разозлился на евреев. Их рисуют в газетах, их не любят. Почему они не сделали так, чтобы их все любили? Зачем они вообще есть? Ему очень захотелось, чтобы их не стало. Как только всех их уничтожат, из газет сразу же исчезнут карикатуры, и к Тео снова вернется законное право на бледность, сутулость, худобу – словом, на самого себя. По какому праву евреи посмели внешность Тео сделать в общественном восприятии еврейской?
Тео даже не заметил, что одновременно с надеждой на истребление евреев он стал мечтать о том, чтобы не стало заодно цыган, инвалидов, людей нетрадиционной ориентации. К последним он себя не относил – отношения с Куртом он считал чем-то отдельным, индивидуальным, особенным и никак не относящимся ни к какой более широкой категории.
В постели Курт был грубоват, он бесцеремонно поворачивал дело так, как нужно ему, и Тео это устраивало – ему нравилась чья-то власть, уверенность, нравилось подчиняться и быть ведомым. Курт восхищал Тео тем, что тот знал, чего хочет, и ясно ощущал свое право вообще чего-то хотеть – у Тео этого права не было.
Тео удивляло жизнелюбие, практичность и детская бесхитростность Курта – когда они касались интимных тем, он называл вещи своими именами, говорил просто и естественно, не подбирая слов и не используя стыдливых иносказаний. Курт легко рассказывал о предыдущих любовниках, а скованность и стыдливость Тео смешила его и вызывала иногда досаду.
Тео не мог понять, откуда в Курте естественность, легкость, радость и бесстрашие. Разве он не видит, как все опасно и рискованно? Разве не видит, как страшен мир? Разве не понимает, что все надо шифровать, скрывать, прятать? Разве не чувствует он свою незаконность, ущербность, уродство, свою неправильность с точки зрения даже самой природы, не говоря уже о точке зрения законов Третьего рейха?
А что, если Курт искренне не понимает, в каком мире живет? Разумеется, не понимает. Тео решил, что причиной внутренней свободы Курта может быть только одно – его плачевные интеллектуальные способности.
Гуляя по ветреным просторам Гамбурга, Тео пришел к выводу, что такой человек, как Курт, мог выжить только здесь, в этих ветрах. А в берлинских переулках Курт, наверное, не выжил бы…
Тео казалось странным и удивительным, что гомосексуальный мир Гамбурга – при всей постоянно крепнущей силе национал-социализма – продолжает уверенно жить своей жизнью. Тео даже подумал, что Гамбург словно волшебной стеклянной стеной отделен от всего, что есть вокруг назидательного, недовольного, строгого и мрачного – того, что так высокомерно по отношению к многообразной живой жизни и так уверено в правоте запретов, в которых обязаны жить другие.
Многие годы Тео догадывался, что мир, альтернативный берлинскому, где-то все же существует. Может быть, при надлежащем усердии его можно было разыскать даже в самом Берлине. Но приблизиться к нему Тео боялся даже мысленно, не говоря уже о приближении физическом.
Теперь неожиданно для себя Тео вдруг оказался в самом сердце альтернативного мира. Это произошло неизвестно как, по недоразумению – всего лишь потому, что его вечный страх отвлекся на что-то, зазевался и на несколько мгновений потерял бдительность.
За эти несколько странных мгновений Тео успел купить билет на поезд, приехать в незнакомый город и теперь ходил по его продуваемым ветром холодным улицам и, не веря своим глазам и ушам, вдыхал новый воздух – с жадностью и любопытством.
Как это могло произойти? Почему многолетний страх, не ослабевавший ни на секунду и державший Тео в напряжении днями и ночами, вдруг потерял бдительность? Где это случилось? Не в кабинете ли доктора Циммерманна? Или позже, на улице, возле отцовской машины?
Вопросы оставались без ответа, а все, что оставалось Тео, – наслаждаться неожиданно свалившимся на него счастливым компромиссом.
* * *
Гамбург благодаря морским портам будто не ощущал себя частью твердокаменной Германии – он жил как часть огромного мира.
Своим духом он был ближе к соседней Голландии, чем к Германии, – его порты были открыты всем направлениям света. Каждый корабль приносил сюда свежий ветер чужих обычаев и верований, странных способов жизни, удивительных заморских блюд, непонятных идей, психологий, философий.
Никакая единственная и бесспорная истина не могла устоять под напором свежего ветра: сталкиваясь с другими, она оказывалась уже не единственной, не бесспорной, она вынуждена была защищаться и спорить с огромным количеством альтернатив.
Она злилась, огрызалась и, как правило, проигрывала – даже не потому, что какая-то истина оказывалась лучше, а просто потому, что существование в течение некоторого времени в качестве единственной и бесспорной ослабляет любую истину, и она утрачивает навык защищать себя, теряет гибкость, затвердевает, становится ломкой.
Царством как раз такой негибкости и ломкости, в противовес Гамбургу, Тео воспринимал Берлин. Единый центр государственной мысли был составлен из строгих и внушительных правительственных зданий, собравшихся вокруг Вильгельмштрассе – этот мир знаком был Тео с детства: никакому легкомысленному ветру не позволялось разгуляться в его переулках и коридорах.
Этот мир добровольно закрыл себя от свежего воздуха. Все, что оставалось его обитателям, – дышать исключительно собственными идеями: они рождались прямо здесь – в духоте Вильгельмштрассе, и здесь же умирали – от врожденной нежизнеспособности.
Будучи уже мертвыми, они продолжали циркулировать в этих переулках и коридорах: в виде бумажек с гербами и печатями они разлетались отсюда по всей стране уверенными безапелляционными приказаниями о том, как надлежит жить людям, а также объемным перечнем строгих наказаний – за нежелание жить как указано.
Тео вспомнил: когда он иногда гулял по Вильгельмштрассе, ему казалось, что он задыхается, – он не мог найти причин и хоть как-то объяснить себе это странное ощущение. Оно посещало его именно там. Его даже к врачу водили, но никаких причин не выявили, и кончилось тем, что доктор посоветовал ему пить минеральную воду, делать глубокие вдохи и физкультурные упражнения.
Так Тео узнал, что есть врачи, которые убеждены, что минеральная вода и особые физкультурные движения способны облегчить психосоматику национал-социализма.
Подобную нехватку воздуха Тео ощущал и в коридорах отцовского ведомства, а иногда и в стенах родного дома. Маленький Тео тогда не думал о том, что свежие идеи не любят духоты. Дышать ему разрешалось только теми идеями, которые уже были тщательно проверены – то есть теми, которыми уже дышал кто-то другой. Только сейчас, через много лет, повзрослев и разрешив себе дышать свежим воздухом Гамбурга, Тео осознал и почувствовал это.
Тео вполне допускал мысль о том, что Берлин, возможно, тоже был многолик. Но Тео никогда не соприкасался ни с каким другим Берлином, кроме предложенного отцом, – просто не мог знать того свободного, ироничного, остроязыкого Берлина, каким он был всего несколько лет назад и каким он и сегодня, наверное, еще оставался где-нибудь в неведомых далеких закоулках.
О проекте
О подписке
Другие проекты