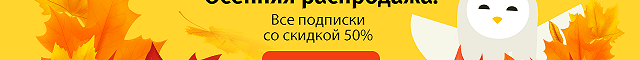
1.5. Судя по всему, именно вследствие этого напряжения между частным и общим, скитом и киновией было выработано то причудливое трех- или четырехчастное членение genera monachorum28, которое мы обнаруживаем у Иеронима (Ep. 22), Кассиана («Собеседования», 18, 4–8), в длинном отступлении в начале «Правила Учителя», у Бенедикта и в несколько ином виде – у Исидора, Иоанна Лествичника, Петра Дамиани и Абеляра, вплоть до текстов канонистов. Однако смысл этого членения – в рамках которого монахов киновии, in commune viventes, сначала отделяют от анахоретов, qui soli habitunt per desertum29, а потом тем и другим противопоставляют как «мерзейший и нечистый» вид сарабаитов (а также бродяжничающих монахов – в четырехчастном варианте, ставшем каноничным после «Правила Учителя» и бенедиктинского правила), – становится ясным, только если иметь в виду, что речь идет не столько об оппозиции между одиночеством и общей жизнью, сколько об оппозиции, так сказать, политической, между порядком и беспорядком, управлением и анархией, оседлостью и номадизмом. Уже у Иеронима и Кассиана «третий род» (квалифицируемый как teterrimum, deterrimum ac infidele30) определяется через то, что они живут «вместе по двое или трое, по собственной воле и указанию (suo arbitratu ac ditione)» и «не терпят управления под опекой и властью аббата (abbatis cura atque imperio gubernati)». «У них, – вторит «Правило Учителя», —вместо закона прихоть желаний» (pro lege eis est desideriorum voluntas – Vogüé 2, I, p. 330), они живут «не испытанные никаким правилом» (Pricoco, p. 134).
Таким образом, в четырехчастном делении genera monachorum, в этом «общем месте монашеской гомилетики» (Penco, p. 506), речь каждый раз идет о том, чтобы противопоставить хорошо управляемое сообщество – аномии, позитивную политическую парадигму – негативной. В этом смысле классификация вовсе не лишена логики, вопреки некоторым утверждениям (Capele, p. 309); напротив, как можно видеть в версии Исидора (где родов станет шесть), у каждой группы есть свой негативный двойник или тень, так что они распределены в точном соответствии с бинарной оппозицией (tria optima, reliqua vero teterrima31 – Isidor, De ecclesiasticis officiis 2, 16, PL, 83, col. 794–799). В иллюстрации к правилу Бенедикта, сохранившейся в городской библиотеке Мантуи, миниатюрист натуралистично и с подробностями противопоставляет две парадигмы: киновитам, представленным четырьмя монахами, молящимися вместе, и анахоретам, представленным одиноким суровым монахом, соответствуют ухудшенные образы сарабаитов, бредущих в противоположных направлениях спиной друг к другу, и бродяжничающих монахов, необузданно поглощающих еду и напитки. Если оставить за скобками особый случай анахоретов, проблема монашества все больше и больше будет заключаться в том, как учредить и утверждать себя в качестве организованного и хорошо управляемого сообщества.
1.6. Совместное обитание является необходимым фундаментом монашества. Однако создается впечатление, что в наиболее древних правилах термин habitatio обозначает не столько простой факт, сколько добродетель или духовное состояние. «Добродетели, коими отличаются братья, то есть обитание и послушание», – объявляет «Правило четырех отцов» (Pricoco, p. 10). В этом же смысле термин habitare (фреквентатив от habeo) обозначает не только фактическую ситуацию, но и образ жизни: так, «Правило Учителя» может постановить, что клирики могут оставаться в монастыре, и даже на долгое время, в качестве гостей (hospites suscipiantur), но не могут в нем «обитать» (in monasterio habitare), то есть принять монашеское состояние (Vogüé 2, II, p. 342–346).
Именно в контексте монашеской жизни термин habitus, изначально означавший «способ существования или действия» и у стоиков быший синонимом добродетели (habitum appellamus animi aut corporis constantem et absolutam aliqua in re perfectionem32 – Cicero, De Inventione, 1, 36), начинает означать форму одежды. Примечательно, что когда это конкретное значение термина начинает укореняться в эпоху после Августа, далеко не всегда можно было отличить его от более общего смысла, – тем более что habitus и раньше часто сближали с одеждой, которая так или иначе была необходимой составляющей «манеры держать себя». Если, когда мы читаем у Цицерона: virginali habitu atque vestitu33 (Verr. 2.4.5), различие и в то же самое время близость двух понятий совершенно очевидны, то относительно пассажа из Квинтилиана, где habitus на первый взгляд как будто отождествляется с одеждой (Theopompus Lacedaemonis, cum permutato cum uxore habitu e custodia ut mulier evasit34 – Quintilian, Institutio oratoria 2. 17. 20), уже нельзя быть уверенным, что термин, напротив, не может относиться к внешнему виду и к поведению женщины в их целом.
Откроем первую книгу «Об установлениях общежительных монастырей»35 Кассиана, озаглавленную De habitu monachorum. Речь здесь идет, вне всяких сомнений, об описании облачения монахов, предстающем как неотъемлемая часть правила: «Намереваясь говорить об установлениях и правилах монастырских (de institutis ac regulis monasteriorum), разве не приличнее всего с Божьей милостью начать с самого монашеского облачения36 (ex ipso habitu monachorum)»? (Cassien 1, p. 34). Однако такое употребление термина становится возможным благодаря тому, что элементы одежды монахов подвергаются процессу морализации, превращающему каждый из них в символ или аллегорию той или иной добродетели и образа жизни. Поэтому описание внешнего одеяния (exteriorem ornatum) становится равнозначным демонстрации образа внутреннего бытия (interiore cultum… exponere37). То есть облачение монаха относится не к заботе о теле, но, скорее, к morum formula, «примеру некой формы жизни»38 (p. 42). Так, маленький капюшон (cucullus), который монахи носят днем и ночью, служит назиданием «всегда хранить детскую невинность и простосердечие» (ibid.). Короткие рукава их льняной туники (colobion) означают «отделение от любых мирских действий и дел» (p. 44) (от Августина мы знаем, что длинные рукава – tunicae manicate – были популярны как признак элегантности). Пропущенные под мышками шерстяные шнурки, на которых держится одежда, непосредственно прилегающая к телу монахов, означают, что те готовы к любой ручной работе (inpigri ad omnes opus expliciti – ibid., p. 46). Короткая накидка (palliolus) или платок (amictus), которым покрывают шею и плечи, символизируют смирение. Посох (baculus) напоминает о том, что они «никогда не должны идти безоружными через бранящуюся и лающую толпу пороков» (p. 48). Сандалии (gallicae), одеваемые на ноги, означают, что «стопы души должны быть всегда готовы к духовному пути» (p. 50).
Вершиной этого процесса морализации облачения является кожаный пояс (zona pellicia, cingulus), который монах обязан всегда носить, – он превращает монаха в «воина Христа», готового в любых обстоятельствах сражаться с демоном (militem Christi in procinctu semper belli positum39), – и в то же самое время вписывает его в генеалогию (уже засвидетельствованную в правиле Василия), которая через апостолов и Иоанна Крестителя возводится к Илие и Елисею (p. 36). Более того, habitus cinguli (которое, разумеется, не может означать «одежду пояса», но имеет то же значение, что и hexis40 и ethos41, и указывает на установившийся обычай) образует что-то вроде sacramentum, священного знака (возможно, также в техническом смысле клятвы – in ipso habitu cinguli inesse non parvum quod a se expetitur sacramentum42, p. 52), означающего и делающего видимым «умерщвление членов, в которых находится рассадник сладострастия и похоти» (ibid.).
Этим объясняется решающая функция, которую древние правила придают моменту, когда неофит снимает свою мирскую одежду, чтобы получить монашеское облачение. Уже Иероним, переводя Пахомия, считает необходимым противопоставить светские vestimenta и habitus монаха (tunc nudabunt eum vestimentis secularibus et induent habitum monachorum43 – Bacht, p. 93). В «Правиле Учителя» habitus propositi – которое не может быть просто так выдано неофиту (Vogüé 2, II, p. 390) – очевидно является чем-то большим, чем одежда: это габитус – сразу и одежда, и образ жизни, – соответствующий propositum44, то есть проекту, которому посвящает себя неофит. И, когда чуть ниже правило устанавливает, что новообращенный, решивший покинуть общину, чтобы вернуться в мир, должен быть exutus sanctis vestibus vel habitu sacro45 (p. 394), здесь речь не идет, вопреки мнению редактора, о какой-то «избыточности»: «священный габитус» является чем-то большим, чем «святые одежды», поскольку выражает образ жизни, символом которого они являются.
Поэтому для монахов обитать вместе означает не просто разделять местопребывание и одежду, но, в первую очередь, габитусы; и в этом смысле монах – это человек, живущий в модусе «обитания», то есть следующий правилу и форме жизни. Тем не менее очевидно, что киновия представляет собой попытку добиться совпадения облачения и формы жизни в абсолютном и всеохватном габитусе, в котором одежда и образ жизни более не различимы. Однако дистанция, разделяющая два значения слова habitus, так никуда и не исчезнет, и ее двусмысленностью еще долго будет отмечено определение монашеского состояния.
ℵ Расхождение между habitus как одеждой и habitus как формой жизни монаха порицалось уже канонистами в отношении священников: Ut clerici qui se fingunt habitu et nomine monachos esse, et non sunt, omnimode atque emendentur, ut vel veri monachi sint vel clerici46 (Ivo Cartunensis, Decretum PL, 161, col. 553). Эта двусмысленность войдет в поговорку в изречении «монаха не облачение делает» (или наоборот, как в немецком контексте, где Kleider machen Leute47).
1.7. Монашеские правила (особенно первая глава «Установлений» Кассиана) являются первыми текстами христианской культуры, в которых одежда целиком и полностью наделяется моральным значением. Это имеет тем большую важность, если задуматься над тем, что происходило в то время, когда клир еще не отличался своей одеждой от остальных членов общины. Мы располагаем письмом Целестина I от 428 г., в котором понтифик предостерегает священников галло-романских церквей от введения отличий в одежду, в частности посредством ношения поясов (lumbos praecinti48 – что наводит на мысль о монашеском влиянии, которому папа хочет противостоять). Это не только противоречит церковной традиции (contra ecclesiasticum morem faciunt49) – папа также напоминает, что епископы должны отличаться от своего народа «не одеждою, но учением; не облачением, но образом жизни; не изяществом, но чистотой помыслов» (discernendi a plebe vel ceteris sumus doctrina, non veste; conversatione, non habitu; mentis puritate, non cultu). И только после того, как монашество трансформирует одежду в габитус, сделав ее неотличимой от образа жизни, в церкви (после Собора в Маконе в 581 г.) начнутся процессы, в результате которых священническое и мирское облачение станут строго различаться.
Разумеется, одежда во все эпохи наделялась моральным значением, и в мире христианства нарратив Книги Бытия связывал само возникновение одежды с грехопадением Адама и Евы (в момент изгнания из Эдемского сада Бог одевает их в кожаные одежды – tunicae pellicae – как символ греха), но только с появлением монашества наблюдается всеохватывающая морализация каждого отдельного элемента гардероба. Чтобы найти нечто эквивалентное главе de habitu monachorum «Установлений» Кассиана, необходимо было дождаться великих литургических трактатов Амалария, Иннокентия III и Гийома Дюрана (а в мирском контексте – «Книги церемоний» Константина Багрянородного). В самом деле, если мы откроем Rationale divinorum officiorum Гийома, то сразу после обсуждения церкви и ее должностных лиц мы увидим, что книга третья посвящена анализу «наряда и украшений священников», где в точности, как у Кассиана, объясняется символическое значение каждого отдельного элемента священнической одежды, для которых во многих случаях можно найти соответствие в монашеском облачении. Прежде чем перейти к подробному описанию каждого элемента одежды, Гийом дает следующее обобщение одеяния священника:
Понтифик, подпоясываясь для божественной службы, снимает с себя обыденную одежду и надевает чистую и священную. Прежде всего обувается в сандалии, напоминающие о воплощении Господа. Затем надевает амикт, чтобы сдерживать движения и мысли, уста и язык, дабы сердце его стало чистым и обновился его дух, который чувствует прямо в груди. В-третьих, альба50 длиной до пят, символ чистоты и непоколебимости. В-четвертых, пояс для обуздания порывов похоти. В-пятых, стола, знак послушания. В-шестых, туника цвета аметиста, означающая небесную жизнь. В-седьмых, накрывается сверху далматикой, символом святой религии и умерщвления плоти. В-восьмых, покрывает руки перчатками (cirotyhecae), дабы исчезло тщеславие. В-девятых, кольцо, дабы любил невесту51 как самого себя. В-десятых, казула (или планета), означающая милосердие. В-одиннадцатых, плат, дабы в покаянии смыть всякий грех слабости и неведения. В-двенадцатых, сверху надевает плащ, учреждающий его как подражателя Христа, взявшего на себя наши слабости. В-тринадцатых, митра, дабы поступал так, чтобы сподобиться венца вечной славы. В-четырнадцатых, посох (baculus), символ авторитета и учения (Guillaume, p. 178).
С другого ракурса элементы одежды священника перечисляются в соответствии с излюбленными у монахов военными метафорами – как арсенал оружия для борьбы с духовным злом:
Вначале священник надевает сандалии в качестве поножей, дабы не загрязниться никаким бесчестьем. Во-вторых, покрывает голову амиктом, как будто шлемом. В-третьих, альба покрывает все его тело, как панцирь. В-четвертых, пояс (cingulum), служащий луком и subcingulum, коим стола крепится к поясу, служащий колчаном. В-пятых, стола обвивает его шею, словно кидая копье во врага. В-шестых, манипул служит ему булавой. В-седьмых, планета прикрывает его, как щит, тогда как рука держит книгу, словно меч (Ibid., p. 179).
Предписания правил, касающиеся habitus monachorum, во всей своей бедности и безыскусности являются предвестником прославляющей кодификации литургических одежд. Те и другие сближаются между собой, поскольку являются знаками и таинством духовной реальности: «Священник должен радеть о том, чтобы никогда не носить знак без значения или одежду без добродетели, чтобы не уподобиться склепу, убеленному цветами, внутри же полному всякой мерзости» (ibid.).
1.8. Мы привыкли связывать хронометрическое скандирование [scansione] человеческого времени с Новым временем и разделением труда на заводе. Фуко показал, как на пороге индустриальной революции дисциплинарные диспозитивы (школы, казармы, колледжи, первые настоящие мануфактуры) уже начиная с конца XVII в. начали разделять длительность на сегменты, следующие друг за другом или параллельно, чтобы, комбинируя отдельные хронологические серии, получить более эффективный комплексный результат. Хотя Фуко и упоминает монастырский прецедент, тем не менее, мало кем отмечалось, что за пятнадцать веков до этого монашество уже осуществляло в своих обителях – с исключительно моральными и религиозными целями – темпоральное скандирование существования монахов, чья строгость не только не имела прецедентов в античном мире, но в своей бескомпромиссности и абсолютности, возможно, не имеет себе равных и среди любых институтов современности, даже на тейлористском заводе.
Horologium – примечательное имя, которым в восточной традиции принято называть книгу, содержащую распорядок канонических богослужений в соответствии со временем дня и ночи. В своей изначальной форме оно восходит к палестинской и сирийской монашеской аскезе VII и VIII в. Службы молитвы и псалмопений здесь упорядочены в виде «часослова», задающего ритм молитвы на рассвете (orthros), утром (первый, третий, шестой и девятый часы), вечерни (lychnikon) и полночи (которая в некоторых случаях длилась всю ночь – pannychis52). Это стремление отмерять жизнь по часам, учредить существование монахов как horologium vitae тем более поразительно, если вспомнить не только о примитивности инструментов, которыми они располагали, но также и о весьма приблизительных и вариативных принципах самого деления на часы. День и ночь разделялись на двенадцать частей (horae
О проекте
О подписке
Другие проекты