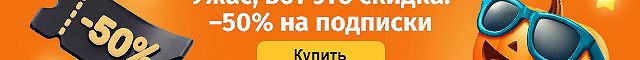
Когда я вспоминаю свои первые политические выступления, я понимаю, что в начале моей деятельности меня вдохновляли не только Мартин Лютер Кинг или Кеннеди. Не менее важную роль для меня сыграла бесхитростная вера моего дедушки в то, что благополучие нашей стране принесут лидеры, которые прямо говорят о том, что видят: «Люди не знают, кому или чему они могут верить, но больше всего они боятся верить политикам», – сказал я, обращаясь к собравшимся в Hotel du Pont в Уилмингтоне, где я объявил о выдвижении моей кандидатуры в Сенат в 1972 году.
Нам нужны государственные деятели, которые смогут встать и прямо сказать, что они думают… В последние годы страна терпела неудачи не потому, что народ не в состоянии справиться с возникающими сложными задачами, но потому, что обе наши главные политические партии не умеют честно и бесстрашно представить эти задачи народу и довериться готовности народа делать то, что нужнее всего для страны. Мы все знаем, – или, по крайней мере, нам так твердят, – что наш народ разобщен. И мы знаем, что в этом есть доля правды. Слишком часто позволяли мы нашим разногласиям стать выше нас. Мы слишком часто позволяли честолюбивым людям играть на этих различиях ради политической выгоды. Мы слишком часто прикрывались нашими различиями, и никто не пытался вывести нас за их пределы. Но все наши различия кажутся такими незначительными рядом с ценностями, которые все мы разделяем. <…> Я баллотируюсь в Сенат потому, что… я хочу, чтобы система снова заработала, и я убежден, что именно этого желают все американцы.
Я верил в это в 1972 году и верю до сих пор. Отцы-основатели создали выдающуюся, блестящую политическую систему, которую поколения американцев, одно за другим, использовали для того, чтобы сделать страну более честной, более справедливой, более ориентированной на человека, более приверженной соблюдению личных прав. В Соединенных Штатах действует самая эффективная и справедливая система управления из всех существовавших в мире. В самой системе нет ничего неправильного по сути; остается каждому из нас приложить усилия, чтобы заставить ее работать.
На меня возложена честь служить этой цели. Я больше половины своей жизни провел на посту сенатора от штата Делавэр. Прошло почти тридцать пять лет, а меня еще больше, чем поначалу, увлекает моя работа, я еще сильнее, чем раньше, предан своему делу. Каждый день вы читаете или слышите о плачевном состоянии нашей национальной политики, о серьезных разногласиях между партиями, где проявляются в первую очередь партийные интересы, и о том, как недопустимо грубо ведется обсуждение тех или иных вопросов. Я не отрицаю этого, но мне, как человеку, который находится на той самой арене, кажется, что в ситуации нет ничего необратимого или фатального. Мы всегда можем изменить мир к лучшему. Я верю в это, иначе я не работал бы в политике до сих пор. Более того, я чувствую, что сегодня у меня для этого больше возможностей, чем за всю мою предшествующую карьеру. Может быть, это потому, что сейчас, после стольких лет моей службы, ко мне действительно прислушиваются.
В истории Сената было лишь несколько десятков человек, служивших в нем дольше меня. Когда меня избрали в 1972 году, мне было двадцать девять, так что мне еще пришлось дожидаться следующего дня рождения, чтобы принять присягу. Я еще застал сенаторов-«гигантов». Возможно, они были не лучше и не хуже тех, кто служит сегодня, но всех их, от диксикратов до прогрессистов, хорошо знали в стране: Джеймс Истленд, Сэм Эрвин, Джон Стеннис, Барри Голдуотер, Уоррен Магнуссон, Стюарт Саймингтон, Джейкоб Джавитс, Генри «Скуп»[2] Джексон, Абрахам Рибикофф, Филип Харт. И лучшие из них, такие как Майк Мэнсфилд и Хьюберт Хамфри, заслужили для Сената уважение американского народа. Когда я впервые оказался там, я ощутил благоговение, и это чувство не покидает меня до сих пор. И сейчас, тридцать пять лет спустя, у меня все еще мурашки бегут по коже, когда я выхожу на Union Station и вижу купол Капитолия.
Я начал подниматься с самой нижней ступеньки: помню, мне, как самому младшему, дали такой крошечный кабинет, что моим сотрудникам приходилось подниматься с мест, когда кто-то приходил, потому что иначе дверь было не открыть. Тогда я намеревался служить в Сенате полгода, не дольше. Но в результате я продержался так долго, что успел побывать, в разное время, председателем судебного комитета и комитета по международным отношениям. За шесть сроков, которые я был сенатором, многое изменилось: что-то к лучшему, что-то к худшему. Я служил с последними сторонниками сегрегации из южных штатов, а потом стал свидетелем того, как принесли присягу Кэрол Мозли-Браун и Барак Обама. В 1973 году у нас не было ни одной женщины-сенатора. Сегодня их шестнадцать, и у одной из них есть серьезные шансы занять в будущем президентский пост. В залах заседаний комитетов, в конференц-залах, в гардеробе и в зале заседаний самого Сената я наблюдал всеобщее падение нравов и растущее нежелание моих коллег посмотреть на мир глазами другого человека. За две кампании я видел, как партийные интересы ставят во главу угла, а еще наблюдал, что деньги все больше получают решающее значение как в предвыборных кампаниях, так и в управлении. Но я также видел тысячи маленьких проявлений доброты в отношении политических оппонентов и сотни поступков, исполненных личного и политического мужества.
Правила и традиции Сената направлены на то, чтобы его члены раскрыли на службе все свои лучшие качества. В начале моего первого срока президенту Ричарду Никсону суды приказали передать им уотергейтские пленки[3], и казалось, что над правительством замаячил конституционный кризис. Президент попросил сенатора Джона Стенниса посодействовать ему в этом деле: прослушать записи, сделать для коллег краткий отчет, но не раскрывать содержание пленок всему Сенату. Стеннис отказался. Он не будет выступать на стороне исполнительной власти; пленки с записями должны быть доступны всем. Джон Стеннис действовал принципиально, и его целью было поддержать Конституцию. Я помню, что он сказал в тот день на собрании Демократической партии: «Я долго и упорно думал о том, в чем состоит моя обязанность. И я решил, что долг чести обязывает меня… Я ведь служу Сенату. Не президенту. Поэтому я не буду слушать эти пленки. Я служу Сенату». О себе я тоже могу с гордостью сказать: я служу Сенату. В этой работе я проявляю мои сильные стороны, здесь реализуются мои глубочайшие убеждения.
Я служу гражданам штата Делавэр, но я также служу Конституции и народу. Джордж Вашингтон говорил, что решениям, как чашечке кофе, необходимо слегка остыть, и задачу Сената он видел в том, чтобы «охлаждать» решения, действуя вне сиюминутных политических задач. Основополагающие документы страны призывают сенаторов Соединенных Штатов проявлять дальновидность как в национальных, так и в международных делах; решать любые вопросы мудро и взвешенно, идет ли речь о личных или коллективных решениях; защищать меньшинство от разрушительной силы большинства; а также неотступно следить за действиями президента, если он или она превышает пределы своих полномочий. Сенат был создан для этой независимой и сдерживающей роли, и этот почетный долг и эта ответственность стоят превыше партийных споров, в любой день и любое десятилетие.
На посту сенатора Соединенных Штатов я был свидетелем истории (и сам сыграл в ней небольшую роль): война во Вьетнаме, Уотергейт, захват американских заложников в Иране, выдвижение Борка, падение Берлинской стены, воссоединение Германии, распад Советского Союза, теракт 11 сентября, две войны в Ираке, президентский импичмент, отставка президента, президентские выборы, исход которых определил Верховный суд. Я побывал в зонах военных действий по всему миру, я видел, что такое геноцид. Я вел непростые переговоры с Косыгиным, Каддафи, Гельмутом Шмидтом, Садатом, Мубараком и Милошевичем. Я видел, как боролись за президентский пост Никсон, Форд, Картер, Рейган, Клинтон и оба Буша. Я сам участвовал в президентской гонке, финал которой для меня был похож на крушение сошедшего с рельсов поезда, и мне только и оставалось, что подбирать обломки… а потом я чуть не умер от аневризмы сосудов головного мозга. Мне пришлось восстанавливать и здоровье, и репутацию, и карьеру в Сенате. Годы, прошедшие с тех пор, стали для меня самыми плодотворными. Из моих достижений в общественной жизни я больше всего горжусь тем, что содействовал прекращению геноцида на Балканах и обеспечил принятие закона «О насилии в отношении женщин»[4] в его полной редакции. Если бы я не совершил ничего кроме этого (и если ничего не сделаю в будущем), для меня эти два результата окупают все те трудности и сомнения, которых у меня было немало за мою долгую карьеру.
Я многое узнал о себе за эти годы, но мне кажется, что еще более важное знание я вынес для себя об американском народе – о том, что дает нам повод для особой гордости. В 1972 году, когда я впервые выиграл на выборах и стал сенатором, я часто говорил, что глубоко верю в американский народ, – и говорил это абсолютно искренне. Я не просто провозглашал это в моих выступлениях – я и с женой перед сном беседовал о том же. Я очень гордился нашей предвыборной кампанией 1972 года; мы действовали честно, прямолинейно и справедливо. Я искренне верил, что поступал именно так, как учил дедушка. Предвыборная кампания «Байдена – в Сенат» опиралась на стремление сохранить политику честной, и мне казалось, что эти усилия оправдались. Я говорил об этом со своей женой Нейлией, мы тогда переехали в большой новый дом: «Я глубоко верю в это, Нейлия. Искренне верю. Верю в американский народ». Нейлия всегда была дальновиднее, чем я. «Джо, – сказала она, – а что бы ты сейчас чувствовал, если бы проиграл?»
Честно признаюсь: у меня нет абсолютной веры в правильность суждений и мудрость американского народа. Все мы люди, и всех нас можно ввести в заблуждение. Когда лидеры не доверяют гражданам, мы не можем ожидать от них правильных решений. Но в сердце американского народа я верю и абсолютно убежден в своей вере. Самый ценный ресурс нашей страны – это выдержка, решимость, мужество, элементарная порядочность и непреклонная гордость наших сограждан. Мне знакомы тысячи простых американцев, на чьи плечи легла тяжелая ноша, что сломало бы многих из нас, а эти люди каждый божий день встают и – шаг за шагом – как-то справляются. Причем большинство из них делает это, не требуя для себя каких-то особых привилегий и не призывая никого из них пожалеть, несмотря на то, что многие из тех, кому повезло чуть больше, всегда рады сделать что-то, чтобы облегчить их положение. Я верю в великодушие, решительность и благородство моих сограждан. Я неоднократно в этом убеждался, но наиболее ясно осознал 11 сентября 2001 года, через несколько часов после террористических атак, направленных на Всемирный торговый центр и Пентагон.
В тот момент, когда самолеты врезались в башни, я ехал на поезде из Уилмингтона в Вашингтон, и когда я в то утро вышел со станции метро Union Station, я увидел, как пелена дыма тянется от Пентагона через реку Потомак. Это было невероятно спокойное утро. Почти не чувствовалось ветра. Было так тихо, что я слышал свое дыхание, когда шагал в сторону Капитолия. Меня поразило светившее мне в лицо теплое солнце и ослепительное кобальтово-голубое небо, почему-то без привычных следов от самолетов. А под этим спокойным небом в Вашингтоне нарастала паника. Из Капитолия уже всех эвакуировали. В парке между Капитолием и Union Station толпились сенаторы, члены Палаты представителей и их сотрудники. Некоторые разговаривали по мобильным. Некоторые уже обсуждали вопросы финансирования программы «Звездные войны», той самой, которая была разработана еще при Рейгане. Полиция Капитолия никого не пускала обратно в здание, но для избранной группы должностных лиц на командном пункте, расположенном на верхнем этаже четырехэтажного здания позади Сената, проводили брифинги. Большинство членов обеих палат расположились этажом ниже. Так что я ходил с одного этажа на другой, пытаясь убедить всех, кто готов был меня выслушать, что мы должны вернуться к заседаниям и показать американскому народу, что мы продолжаем работать. Никто не двинулся с места; лидерам обеих партий внушали, что они должны быть готовы покинуть город. Конгрессмен Боб Брейди, который также призывал наших коллег вернуться на заседание, в конце концов не выдержал и сдался. Он решил, что сможет быть чем-то полезен в своем округе, в Филадельфии, и предложил по пути подвезти меня в Уилмингтон. Мы с Брейди шли среди столпившихся у здания репортеров и чувствовали, как нарастает паника; журналисты, естественно, стремились услышать хоть какие-то комментарии по поводу происходящего. «Сенатор Байден, – сказала мне репортер канала ABC, – сенаторы, с которыми я говорила, и члены Конгресса сказали, что мы сейчас находимся в состоянии войны. Сенатор Шелби, высокопоставленный член комитета по разведке, сказал, что мы сейчас фактически находимся в состоянии войны. Мы должны быть в режиме боевой готовности. А сенатор Чак Хэйгел говорит, что нужно ввести режим безопасности на границах, закрыть наши аэропорты, ввести новые меры по защите государственных учреждений. Что вы можете сказать по этому поводу?»
«Надеюсь, это не так», – сказал я ей и зрителям ее канала.
Я сказал бы иначе. Я бы сказал, что мы столкнулись лицом к лицу с реальностью. Это реальность, о существовании которой мы знали, и мы понимали, что она может настать в любой момент.
Эта реальность, которая в той или иной степени уже проявила себя в других странах. Но если для того, чтобы ответить на вызовы этой реальности, мы должны урезать наши гражданские свободы, отказаться от привычного порядка действий, то получится, что мы действительно проиграли войну. Ведение же этой войны для нас состоит в том, чтобы показать, что наши гражданские свободы, гражданские права, право быть свободными, свобода передвижений не претерпели фундаментальных изменений… Мы можем многое предпринять, чтобы значительно снизить риск подобных событий в будущем, и при этом не поступиться своей национальной сущностью…Наш народ так велик, силен, сплочен и такую силу обретает в своем единстве и в своих ценностях, что наше единство ничто не может поколебать. И этого не случится. Этого не случится.
К тому времени руководство Сената и Палаты представителей уже убедили отправиться на вертолетах в охраняемое место где-то в Западной Вирджинии. Вице-президента потихоньку увезли в неизвестном направлении. Президент летал из одного безопасного места в другое на самолете ВВС; его убедили, что возвращаться в Вашингтон слишком опасно.
К тому времени, как мы выехали на дорогу, ведущую в Уилмингтону, башни-близнецы уже рухнули, а число погибших в Нью-Йорке оценивалось в пять, шесть, семь тысяч или даже больше. Но когда я вернулся домой и включил телевизор, я понял, что сердце Америки бьется все с той же силой. В больницах Нью-Йорка дежурили врачи и медсестры, готовые оказать помощь раненым. На улицах выстроились длинные очереди: жители Нью-Йорка дожидались возможности сдать кровь, несмотря на слухи о том, что запасов крови уже достаточно. Я видел их лица и понимал, что они рвутся что-нибудь сделать, что угодно. Никто не говорил о боевой готовности и не призывал к возмездию. Они просто хотели внести свою лепту. В тот день я снова осознал, что даже тогда, когда лидеры страны в Вашингтоне смолкли, народ Америки оказался на высоте. Я смотрел на тех, кто стоял в очереди сдавать кровь, и не сомневался, что страна поднимется после удара, встретит новый вызов лицом к лицу, и это преодоление сделает ее сильнее.
Для меня это первый принцип жизни, основополагающий принцип, тот урок, который вы не усвоите, внимая наставлениям мудрецов: Вставай! Умение жить заключается в том, чтобы подняться, когда тебя сбили с ног. Этот урок нагляден, и я хорошо усвоил его на практике. Я получал этот урок каждый день, пока рос в приземистом двухэтажном доме в пригороде Уилмингтона, в штате Делавэр. Мой отец, Джозеф Робинетт Байден-старший, был немногословен. Я всему учился у него, когда наблюдал за ним. В молодости он пережил тяжелые удары судьбы и знал, что уже не сможет вернуть то, что потерял. Но он никогда не опускал руки. Утром он всегда вставал первым и, чисто выбритый, элегантно одетый, варил кофе и отправлялся в автосалон, на работу, которая ему никогда не нравилась. Мой брат Джим говорил мне, что почти каждое утро слышал, как папа поет на кухне. Отец обладал особой силой духа. Он никогда не сдавался и никогда не жаловался. «Этот мир вовсе не обязан тебе по гроб жизни, Джо», – говорил он, но в голосе его не было злобы. Ему некогда было себя жалеть. Для него было не так важно, сколько раз какого-то человека жизнь отправляла в нокдаун: важно было, как быстро тот снова поднимался на ноги.
Вставай! Он много раз повторял это, и эти слова эхом отзывались и в моей жизни. Мир с размаху швыряет тебя на землю? Мой отец говорил: «Вставай!» Лежишь в постели и жалеешь себя? Вставай! На футбольном поле получил по заднице? Вставай! Получил плохую оценку? Вставай! Девушке, которая тебе нравится, родители запретили встречаться с тобой, потому что ты католик? Вставай!
Этот призыв звучал и в очень серьезных случаях – когда поддержать меня мог только один голос – мой собственный. Что, сенатор, после операции вы, возможно, не сможете говорить? Вставай! Газеты называют тебя плагиатором, Байден? Вставай! Ваша жена и дочь… Простите, Джо, мы сделали все, чтобы их спасти, но не смогли. Вставай! Провалил экзамен на юридическом? Вставай! В школе над тобой смеются, потому что ты заикаешься, Ба-ба-ба-ба-Байден? Вставай!
О проекте
О подписке
Другие проекты
