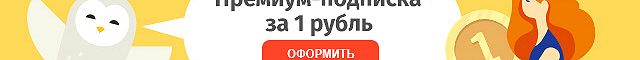
Оказавшись на площадке, Ленин не торопился пройти внутрь вагона. Он то ли хотел подышать свежим, утренним воздухом, то ли чего-то ждал. Когда раздался гудок, и поезд готов был вот-вот тронуться, он невозмутимо соскочил на перрон, немного помешкал, сделав вид, что укладывает поплотнее грибы, и убедившись, что давешнего его знакомого на перроне нет, двинулся в сторону вокзального здания, но остановился вскоре возле расписания, висевшего на большом щите в середине платформы.
Расписание выгладело искорёженно. Частью оно было заклеенно длинными бумажными полосами с надписями «отменён» или «без остановок», частью было переправлено от руки. Типографское «Империи» было зачеркнуто, и сверху написано чернильным карандашом – «Республики».
Ленин внимательно изучил расписание, зайдя ещё и с другой стороны, и зашагал дальше, вперёд, торопясь в здание вокзала. Он обгонял носильщиков, солдат-инвалидов на костылях, сестёр милосердия, ремесленников. Ему навстречу попадались матросы, угрюмые, небритые офицеры, всё больше прапорщики, все как один с красными бантами; земгусары, мальчишки-газетчики, девицы с папиросами. Он зашел в помещение вокзала, потолкался, не сразу нашел кассовый зал: таблички – где разбиты, где замазаны грязью до неузнаваемости. И, вот ещё новая мода, на месте разбитых русских табличек кое-где новенькие, но по-фински. У кассы небольшая очередь, дождался, подошёл, купил один билет второго класса. До Гельсингфорса.
Зашёл в туалет. В зеркало взглянул, провёл рукой по подбородку. Отросло. Лицо старое, на вид можно дать все шестьдесят. Кожа на висках как у старой черепахи, глаза – щёлочки, как у японца. Зашёл в кабину, тесно, не повернуться. Снял куртку. Под курткой – свитер, вроде тех, что носят финские крестьяне. Куртку – наизнанку. Изнанка из яркого пледа вроде шотландки. С изнанки – застёжка, карманы, всё как снаружи. Из кармана в карман, быстрым движением, – браунинг, проверив предохранитель. Сложенную пополам вдоль синюю ученическую тетрадку – в другой карман. Картуз с головы – в мешок, из мешка на голову – щегольское английское кепи с наушниками. Грибов из корзинки одну горсть, другую, всё – в очко. На дно корзины – мешок со всем содержимым. Прикрыть грибами, и сверху – складной швейцарский нож. Возле очка – не пристроиться. Тесно, грязно. Стоя, задрал брюки. Под брюками – высокие, вишнёвые английские башмаки на шнуровке. Расшнуровал, заправил брюки, зашнуровал. Всё, теперь он дачник-грибник, тотчас мыть руки, и он ещё успеет в буфет.
Никакое время дня так не любил Ильич, как раннее утро. Тот час, когда господа ещё видят сны, а наш брат рабочий уже входит в заводские ворота, когда раскладывают свой товар на лотках уличные торговцы, когда втягивают в город свои повозки крестьяне и придавливают булыжником на углу газеты мальчишки-газетчики. Никакой другой час не был так мил потомственному дворянину Ульянову, как этот ранний, трудовой час, когда весь день впереди, и столько ещё можно успеть. И ещё за то любил Ильич раннее утро, что всем своим естеством чуял он, что враги его ещё спят, и он может напасть на них, беспомощных, и делать с ними что хочет.
Хоть и поспать ему удалось за ночь не больше трёх часов, сна у Ленина – ни в одном глазу. Правда в буфете он кофию напился, да ещё прикупил в дорогу небольшую головку чухонского сыра и прихватил заодно аппетитный лимон, а уж чаю во втором классе нальют как-нибудь. Ещё газету купил вчерашнюю. Выбрал кадетскую «Речь» в пандан к английским башмакам и кепи. Не читать, понятно. Читать эти либеральную чепуху – всё равно, что чужие сопли по лицу размазывать. Газета – чем удобно? Всегда есть, чем лицо прикрыть. Конспирация!
Хоть, на лицо глядя, и можно было бы дать Ильичу все шестьдесят, не чувствовал он себя и на сорок. Весь он был как сжатая пружина, как натянутая струна, как стрела, пущенная из лука. И не имела над ней уже власти отпустившая её рука. И неслась она теперь неотвратимо к той цели, что выбирала сама.
Он всегда любил в себе эту упругость, мускулатурность, ловкость. Он хоть сейчас был бы рад сесть на велосипед, взяться за вёсла, полазать по горам. А с тех пор, как в апреле он вернулся в Россию, как сошёл с поезда на Финляндском, оробев слегка от массы встречавшего его народа, так и вовсе у него как будто лет двадцать – с плеч долой, и сейчас, на этом выборгском перроне, в свои сорок семь, он чувствовал себя моложе, чем в Париже в сорок, в Женеве в тридцать шесть или в Лондоне в тридцать два. Пожалуй лишь в Шушенской ссылке, в двадцать восемь, ощущал себя Ильич таким же крепким и сильным, как сейчас.
Перрон, куда должен был прибыть его поезд, Ленин тоже нашёл не сразу. Сначала не туда вышел, табличку не так прочитал. Ещё немного – и он научится читать по-фински. Но теперь он точно там, где надо. На всякий случай спросил служителя, тот подробно, обстоятельно, подвердил:
– Точно так, пассажирский из Петрограда, прибывает на этот путь. По расписанию должен через сорок минут, но война, сами знаете…
Ленин выбрал скамью в середине платформы, там, где, по расчету, должен был остановиться его вагон, пристроил подле себя лукошко и прикрыл лицо газетой. Задремал пассажир в ожидании поезда, ничего удивительного, час по господским понятиям ещё куда как ранний.
Он вспомнил отчего-то тот день, когда Саша впервые научил его узнавать время по звёздам. Он вспомнил поздние летние сумерки, себя, двенадцатилетнего, одиноко крутящегося на «гигантских шагах» во дворе их симбирского дома.
Вся остальная семья заканчивала ужин на веранде. Уже допили чай. Прислуга собрала посуду и вынесла две керосиновых лампы. При свете ламп у Володи вся веранда как на ладони. Няня забрала Маняшу. Теперь они будут играть в лото. Мешочек с бочонками на коленях у Ани. Она будет выкликать. Мама, Аня и Саша берут себе по четыре карточки. Оле дают три, маленькому Мите – две. Мама сажает Олю поближе к себе: она будет помогать ей следить. Саша, как всегда, будет помогать Мите. Папа в лото не играет.
Володя видит, как папа отодвигает подстаканник, застёгивает на одну пуговицу вицмундир, целует поочерёдно детей: сначала Митю, потом Олю, потом Сашу, потом Аню. Прислуга вернулась забрать со стола самовар. Папа говорит что-то смешное. Володе не слышно что. Все смеются, кроме Мити. Митя не понимает шуток. Папа уходит к себе. Володя сегодня не играет в лото вместе со всеми. Он наказан. Он крутится здесь один на «гигантских шагах» и ждёт пока совсем стемнеет, младших уведут спать, а Саша выйдет к нему. Сегодня десятое июня – день летнего солнцестояния, и Саша обещал научить его узнавать время по звёздам.
Они всё играют и играют в своё лото. Володя кружится и кружится. Ну, доиграли, наконец. Смеются, собирают карточки, бочонки, фишки. Уже темно совсем почти, и звёзды высыпали. Теперь все по очереди подходят к маме, чтобы поцеловать её и желают друг-другу спокойной ночи. Саша подходит к маме последним и о чём-то говорит с ней. Все уходят с веранды. Мама сама, без помощи прислуги, забирает с собой одну лампу, Аня – другую. Теперь темно совсем.
Саша появляется во дворе через минуту-другую. На нём белая рубашка, хорошо заметная в темноте на фоне почерневшей веранды. В руке у него карманные часы.
– Мама не разрешила мне заниматься с тобой, пока ты не извинишься перед Митей.
– Я не буду извиняться. Я ничего плохого не сделал ему.
– Ты дразнил его и пугал козликом.
– Я не дразнил, я хотел его рассмешить.
– Ты же знаешь, что он не понимает шуток. Он ещё маленький. Я тоже думаю, что ты должен попросить у него прощения. Он простит, я уверен.
– Хорошо, я попрошу у него прощения завтра. Он всё равно уже спит.
– Тогда завтра и расскажу про звёзды.
– Но завтра уже будет одиннадцатое июня, солнцестояния не будет.
– Ну хорошо, пошли. Но смотри, ты обещал. Завтра же утром попросишь у Мити прощения.
Братья вышли на крутой, обрывистый берег Волги и оба легли на спину. Саша поднял руку с часами, держа их за цепочку. Помог Володе найти Большую Медведицу и Полярную звезду, объяснил как построить воображаемую стрелку и спросил, куда она показывает.
– Туда, где на часах половина одиннадцатого, – уверенно сказал Володя.
– Правильно. А теперь надо найти где полночь. Полночь каждый день перемещается. Ходит по кругу. Но сегодня, в день солнцестояния, полночь там, где на часах девять. А теперь сосчитай разницу.
– Получается полтора часа после полуночи. Не может быть. Сейчас гораздо раньше.
– Разницу надо считать против часовой стрелки и умножать на два. Сейчас три часа до полуночи. Девять часов вечера. С точностью до пятнадцати минут.
Володе не терпелось проверить. Саша щелкнул крышкой часов и чиркнул припасённой спичкой. Володя посмотрел на циферблат – десять минут десятого. Младший брат смотрел на старшего с восторгом и обожанием.
Похоже, он действительно подремал чуток. Вот и поезд подошёл. Почти без опоздания. Пассажиров мало. В свой вагон Ленин один садится. В соседний, для курящих, подымаются два офицера. У одного белый эмалевый офицерский георгиевский крест, у обоих приколоты красные банты.
Места во втором классе плацкартные, искать свободное нет нужды, но и выбирать не приходится. Ленин нашёл своё купе, с силой дёрнул ручку. В купе один пассажир, морской офицер, по погонам капитан второго ранга. С непременным красным бантом, только почему-то не на груди, а на рукоятке кортика. Фуражка лежит на столике. Соснул, по-видимому. Но с появлением попутчика встрепенулся, подобрался весь, фуражку убрал назад в багажную сетку. Галантен, любезен:
– Милости прошу, устраивайтесь, далеко ли путь держите?
– До Гельсингфорса, господин капитан, – у Ленина как-то само так отлетело звонко, почти по-военному. Даже сам удивился.
Офицер снисходительно улыбнулся в аккуратно постриженные на английский манер усы: штатскому дозволительно не видеть нюансов. Мягко поправил:
– Подполковник по адмиралтейству Шатов, береговая служба, – и через паузу, с запинкой, – Михаил Филиппович.
И потом, совсем уже извинительно:
– Капитаном – это если бы на корабле служил.
Ленин по привычке отрекомендовался Емельяновым, Алексеем – ну пусть будет – Яковлевичем, свободным литератором.
Литератором должно быть безопасно: солдафон небось книжек в руках никогда не держал. Но тут промахнулся Ильич. Офицер захотел себя показать существом разносторонним и образованным.
– Литератор? Поди в газетах пишете? В каких, если не секрет? Да у вас наверняка псевдоним.
– Я всё больше в специальных изданиях, – замялся Ленин. – На экономические темы, в основном. По аграрному вопросу, о хлебопоставках, о финансах, о займах.
Опять не повезло Ильичу. Это кто же в России, на седьмом месяце Революции, да на четвёртом году войны не готов поговорить про экономику? Нынче каждый – экономист. У подполковника сразу ряд вопросов. Первый – конечно, про хлеб, про твёрдые цены, про развёрстку. Про иностранные займы:
– Казалось бы, если мы союзники, если против общего врага, то какие ж могут быть проценты? И если рубль теперь никакой не золотой, то тогда какой же он по-вашему, и так, печатая деньги простынями (показал руками), можно до того докатиться, что через год будём всё считать на миллионы…
Отвечал Ленин. Терминологией владел, статистику знал кое-какую, ссылался на европейский опыт. Но, что у нас в России хорошо, так это то, что интеллигентный собеседник задаёт вопрос вовсе не затем, чтобы услышать на него ответ, а для того лишь, чтобы – хорошо если не перебив на первой же фразе – изложить свою точку зрения на предмет, а заодно уж пройтись и по остальным темам. Всё это пространно, страстно, прикрывая рукой отрыжку, брызгая слюной.
Ленин подполковника не перебивал, слушал внимательно, поддакивал. Проплыла за окном та станция, где несколько часов назад садились они с Зиновьевым на поезд, чтобы ехать в ту, другую, петроградскую сторону.
Уже заходил проводник прокомпостировать Ленину билет, уже зашёл он ещё раз принести господам чаю. Укрепил на столике вазон с бисквитами. А подполковник всё говорил и говорил, видно накопилось у него.
Он рассказывал все те истории, каких успел уже наслушаться Ленин с тех пор, как в апреле вернулся домой, а до того ещё в эмигрантских цюрихских гостиных. Истории эти – ну может быть без малых подробностей – вот уже три года, как печатали все газеты либерального направления, да и потом ещё сто лет предстояло этим художественным деталям насыщать собой мемуары, повести, романы, пьесы,…
Подполковник рассказывал про подмокшие пороха, про некалиброванные снаряды от недобросовестных поставщиков, про неразбериху с морскими картами, про конфуз с шифровальными кодами (подумать только, дело кончилось тем, что передавали так называемым «клером», открытым текстом, вот немцам-то потеха).
Он рассказал, как на «Императрице Марии» накануне того, как взлететь ей на воздух на севастопольском рейде, проводились ремонтные работы, и что не только никакой проверки рабочих, что взошли на борт, не было произведено, но и никакого их поимённого списка никто не озаботился составить.
Он рассказал, как на другом свежепостроенном линкоре, уже здесь на Балтике, пришлось в первый же день войны срезать оказавшиеся негодными орудийные башни, а ведь ими так гордились. И это через десять лет после Цусимы!
– Били нас и будут бить.
О союзниках удалось Ленину ввернуть вопрос. Тут подполковника совсем прорвало. Союзников он и в грош не ставил. Англичане – ещё туда-сюда, всё-таки флот есть флот, а во французах подполковник и вовсе проку не видел. Припомнил визит французского президента Пуанкаре перед самой войной, летом четырнадцатого. Какой ему тогда приём закатили, какой был смотр, какой парад! Да он сам участвовал, стоял на правом фланге! Рассказал, как выстраивали солдат и матросов в каре, подбирая по ранжиру и внешности, так чтобы в одном каре все как один чернявые, а в другом все курносые. И так вот все стоят во фрунт и слушают Марсельезу. А куда денешься? Раз официальный визит значит надо играть гимн. И это в высочайшем присутствии! Умора.
Проводник постучался. Хотел забрать стаканы из-под чая. Подполковник: «Нет-нет, мы ещё допиваем», а сам в портфель свой, и из него – большой термос. В термосе – коньяк.
Ленин озорно:
– Что, союзнички прислали контрабандой?
– Да что вы! Пришлют они, как же. Старый ещё, из довоенных запасов, шустовский. Когда в четырнадцатом сухой закон ввели, мы с женой целый погреб запасли. Вот допиваем понемногу.
Разлил подполковник по стаканам твёрдой рукой. А у Ленина как раз лимон припасен из выборгского вокзального буфета. Удачно. Для политика это очень важное умение – быть на полшага впереди событий.
Сдвинули стаканы за знакомство. Ленин только отпил чуток, подполковник – споловинил. После коньяка беседа потекла ещё живее. Ленину интересно мнение профессионала насчет положения на фронтах. Немцы в Риге. Как считает Михаил Филиппович, угроза для Петрограда реальна?
Оперативными и стратегическими вопросами подполковник владел отменно. Руками показывал на столике: вот здесь мы, здесь – немец. Петроград, считал, защищён надёжно, да немцы и сами не сунутся, зачем им? Теперь, когда Америка присоединилась к Антанте, дела у немцев неважны совсем. Оптимистично был настроен подполковник, однако ж ходом ведения кампании в целом был недоволен:
– Кавказский фронт! Куда это там, с позволения сказать, великий князь – бывший, бывший! – нацелился? Решили что ли по суше до Константинополя дотопать? Смешно! Одно слово – пехота.
Заявленных целей войны морская душа подполковника тоже не вполне разделяла:
– И даже, допустим, достанутся нам эти Дарданеллы. Какой ценой, говорите, какими потерями? Да, неважно, бабы новых нарожают, не в потерях дело, война есть война. Дело в том, что через эти проливы попадаем мы опять в закрытое море. Что, пустят нас англичане в Гибралтар? Смешно думать, право. Ну ладно венценосец, что с него взять, он поди и карт в руках не держал, кроме игральных. Но эти-то: Милюков, Гучков – должны бы, казалось, понимать. Да куда им!
Ленин лениво потягивал коньяк. Подполковник свой допил одним махом. Вспомнил пару анекдотов. Рассказал. Старые, несмешные, пошлые. Ленин сгибался пополам от смеха, колотил себя по ляжкам.
Отсмеялись. Ленин осторожно спросил насчет дисциплины в войсках. Насчёт «Приказа № 1» – в том смысле, не разлагает ли нашу армию?
Подполковник поморщился. Да, в Питере картина неприглядная. Солдаты бузят, митингуют, лузгают подсолнух, офицеры все красные банты нацепили. Но это в Питере, и это запасные полки. Им на фронт неохота – вот и бузят. А а Гельсингфорсе – другая картина, сами увидите. Всё на самом деле от командира зависит. Вот у него на базе – порядок полный, и дисциплина на должном уровне, и никаких красных бантов.
– Так вот же у самого у вас красный бант, – не выдержал Ленин, указав на кортик.
– Это не бант, – поправил подполковник. – Это – «клюква», темляк, лента от Анны четвертой степени.
– А за что орден?
– За ранение при Порт-Артуре. Штабс-капитаном ещё. Шрапнель японская.
Видно было, что не хочется подполковнику вспоминать о том. Так подумалось Ленину, что помимо ранения не избежать было попутчику и японского плена.
За окном начали мелькать семафоры, шлагбаумы, в коридоре послышалось движение. Проводник снова за стаканами постучался, пришлось Ленину быстро допить. Нехотя, неспеша, втягивался поезд под свод гельсингфоргского вокзала.
Подполковника встречал прапорщик, весь в кожаном реглане. Доложил по форме. Авто у вокзала, куда прикажет господин полковник? Сразу на базу или на квартиру сперва?
Подполковник предложил Ленину подвезти. Соблазнительно, чёрт возьми, но:
– Нет-нет, благодарю, мне от вокзала два шага, да и поклажи, видите, совсем никакой.
Распрощались. Офицеры – руки к козырькам. Ленин тоже пощупал козырёк своего кепи.
В Гельсингфорсе на площади перед вокзалом извозчиков не было почти вовсе, а таксомоторов – пруд пруди. Выбрал такой, чтобы шофёр на вид был точно финном. Сел сзади, адрес сказал. Одно слово только: «Мюндгатан». Шторку задернул. Подъехал, вышел, расплатился и ещё несколько кварталов отмахал пешком. Шёл быстро, кепи в кармане: засунул так в такси, да и оставил. Вроде и недавно он носит этот парик, а взялся уже откуда-то этот дурацкий жест – откидывать со лба взмахом головы чёлку. Уж лет сорок как нет у Ильича никакой чёлки, а вот встряла привычка, что ты будешь делать? Это как чужой акцент пристаёт.
О проекте
О подписке


