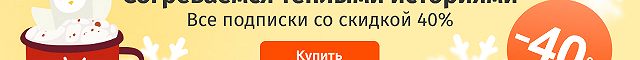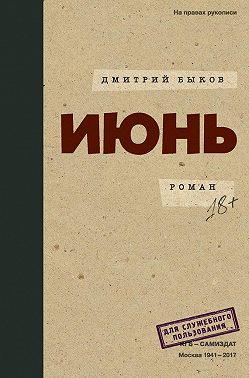Я очень люблю Быкова. Нет, не подумайте), только читательской любовью. Мы знаем, знаем, он чертовски умен. В литературе сегодняшних дней, он несомненно не побоюсь этого слова - один из великих. Минимум, хотя бы потому, что его анализ, критика, и ход мыслей относительно всей окружающей нас литературы(о другом и речи нет) не просто силен, а действительно по факту мощный. Это не мои слова, давно понятно, перед лектором, даже маститые литераторы "аккуратно" сняли свою шляпу. Если послушать его лекции, то вас уносит куда то в пустыню, где вокруг ни души и только он... Быков, ходит вокруг вас и вводит в гипнотический транс относительно всего, что говорится из его уст. Очень редко встретишь человека с сильной иммуной защитой, кто мог бы воспрепятствовать. Но эта книга... И Быков не будет Быковым... Впрочем, я напишу об этом в конце, хотя, это чисто лишь мои рассуждения. Заранее прошу прощения у тех, кто не согласен с моим мнением.
А теперь что касается его книги "Июнь". У меня была возможность прослушать ее. Но, мне очень хотелось именно прочитать книгу. Проглотила я ее за сутки, может чуть больше. Книга разделена на три части, совсем не похожие друг на друга, но объединяющие одну тематику - надвигающаяся война и то как эти герои проносят ее через себя.
В первой истории, мы видим персонаж, Мишу Гвирцмана. Его отчисляют за то, что он якобы домогался до своей подруги, которая в дальнейшем высосет из него не только все нервы и мозги... Он разочаровывается в идейности тех времен, в вере людей и то, как человек может меняться ради своей выгоды, используя фальшивость во благо своей натуры. Ну и... еще одна из составляющих этого рассказа, это то, что молодые люди в какой то преувеличенной форме одержимы плотскими утехами, так будет "культур-муртурнее" сказать как бы. Но, тем не менее, надвигающаяся война все время дает о себе знать, медленно но метко просачиваясь в их мысли, создавая некую тревогу.
Во второй истории, мы видим уже мужчину зрелых лет, Бориса Гордона. Его, судьба связывает с главной героиней этой истории, которая попадает в водоворот предательств и разочарованности. В моменты когда хочешь ты этого или нет, ты "должен" предавать, клеветать, идти вопреки своей человеческой совести, которой практически не хватает в те годы. А надвигающаяся война сгущает эти краски еще сильнее. Очень сильная история, из всех трех рассказов. Потому что, она показывает нам четко, насколько человек может сломать себя изнутри, поддавшись лишь страху и боли, и каковы последствия после этого.
В третьей части, мы видим некоего Игнатия Крастышевского - живущего в своем придуманном мире, где слово имеет волшебную ценность и свойство манипуляции над человечеством. Хотя где-то он и прав...
Очень легкий слог, три совершенно не похожие истории, согласна там есть любовь, предательство, трагизм, драма и боязнь перед огромной надвигающейся трагедией - войной. И во всем этом, несомненно есть первоначальный посыл, аккуратно обернутый в печальные дни тех дней. Но, Дмитрий Львович, я слушаю все ваши лекции, я влюблена в Ваш голос, и я прекрасно слышу ваши мысли, вы умнейший человек нашего времени и это не подхалимство, это факт, я живу в вашу эпоху, как бы я этого хотела или нет. Скажите, что вы хотели на самом деле сказать? Что скрывается за этим текстом? Что?
Ставлю свои скромные пять звезд за то, что вы дали мне возможность думать на этой книгой.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем, за прочтение этой рецензии :)