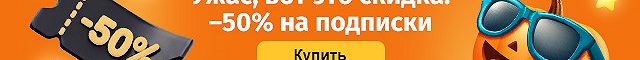
Умирая, люди исчезают. Исчезают их голос, их смех, теплота их дыхания. Исчезает их плоть, а в конечном счете и кости. Исчезает и память об этих людях. Это ужасно и в то же время естественно. Однако некоторым людям удается избежать бесследного исчезновения, так как они продолжают существовать в созданных ими книгах. Мы можем заново открыть этих людей – их юмор, их манеру речи, их причуды. Посредством написанного слова они могут вызвать наш гнев или доставить нам радость. Они могут нас успокоить. Они могут нас озадачить. Они могут нас изменить. И все это при том, что они мертвы. Как муха в янтаре или как тело, застывшее в вечных льдах, чудесное сочетание обыкновенных чернил и бумаги сохраняет то, что по законам природы должно исчезнуть. Это сродни волшебству.
Я ухаживала за книгами, как иные ухаживают за могилами своих близких. Я очищала их от пыли, подклеивала поврежденные листы. И каждый день я открывала какой-нибудь том и прочитывала несколько строк или страниц, позволяя голосам забытых покойников прозвучать у меня в голове. Чувствовали ли они, эти мертвые писатели, что кто-то читает их книги? Появлялся ли тоненький лучик света в окружающем их потустороннем мраке? Ощущала ли бессмертная душа соприкосновение с разумом читающего? Надеюсь, что да. Ведь это, наверное, так одиноко – быть мертвым.
Я заметила, что при описании своей жизни все время откладываю напоследок самое важное. Вообще-то я не из тех людей, кто готов излить душу первому встречному. Преодолевая свою обычную сдержанность, я упомянула здесь о многом, но до сих пор обходила стороной одну вещь, действительно достойную упоминания.
И все же я об этом напишу. «Молчание не является естественной средой для историй, – сказала мне однажды мисс Винтер. – Историям нужны слова. Без них они блекнут, болеют и умирают, а потом их призраки начинают нас преследовать, не давая покоя».
Она совершенно права. Итак, вот моя история.
Мне было десять лет, когда я открыла тайну, хранимую моей мамой. Особая значимость открытия заключалась в том, что тайна должна была принадлежать не столько ей, сколько мне. Это была моя тайна.
В тот вечер мои родители отправились в гости. Подобные визиты они совершали не часто; меня же в таких случаях отсылали к соседке, миссис Робб. Мне там не нравилось – соседний дом был построен по одному проекту с нашим, но при этом являлся его зеркальной копией, и такая «перевернутая планировка» вызывала у меня что-то вроде морской болезни. Узнав о родительских планах на вечер, я в очередной раз объявила себя достаточно сознательной для того, чтобы провести дома несколько часов без надзора. Я не очень рассчитывала на успех, но отец, выслушав меня, неожиданно согласился. Мама позволила себя уговорить, поставив условием, что миссис Робб зайдет меня проведать в половине девятого.
Они ушли из дому в семь часов, и я отметила это событие, торжественно выпив стакан молока на диване в гостиной и преисполнившись гордости: я, Маргарет Ли, достигла возраста, позволяющего оставаться дома одной. Покончив с молоком, я вдруг обнаружила, что не знаю, как распорядиться обретенной свободой. Для начала я отправилась в путешествие по дому, дабы уточнить пределы этой самой свободы: гостиная, прихожая, туалет на первом этаже. Все здесь было как всегда. Ни с того ни с сего мне вспомнился мой давний детский кошмар из серии о волке и трех поросятах: «Сейчас натужусь, дуну и домик разнесу!» Серому волку не составило бы труда сдуть с лица земли жилище моих родителей. Просторные комнаты с непрочными на вид стенами и хрупкой мебелью наверняка рассыпались бы, как построенный из спичек шалаш, даже не от дуновения, а от одного лишь сердитого взгляда волка. В любом случае легкого волчьего свиста было более чем достаточно для того, чтобы обитатели этого домика лишились своего укрытия и достались на съедение серому хищнику. Я пожалела, что нахожусь не в магазине, где мне нечего было бояться. Волк мог бы тужиться и дуть до скончания века: под защитой книжных стеллажей, удваивавших толщину стен, мы с отцом были там как в неприступной крепости.
На втором этаже я зашла в ванную и начала рассматривать себя в зеркале. Мне хотелось удостовериться в том, что я выгляжу как вполне взрослая и самостоятельная девочка. Склоняя голову то к левому, то к правому плечу, я изучала отражение под разными углами, надеясь увидеть что-то новое. Но в зеркале была всего лишь я, глядевшая оттуда на саму себя.
Моя собственная комната не обещала никаких открытий: я давно уже изучила каждый ее дюйм. Поэтому, пройдя мимо нее, я толкнула дверь в комнату для гостей. Строгий платяной шкаф и гладкий туалетный столик лицемерно намекали на возможность найти здесь одежду и привести в порядок свою внешность, но, даже не зная заранее, ты уже догадывался, что за этими дверцами и внутри этих выдвижных ящиков находится только пустота. Аккуратно заправленная постель с разглаженными складками и безжизненно-тощими подушками не вызывала желания на ней поваляться. Эта комната именовалась гостевой, но у нас никогда не бывало гостей. Здесь обычно спала моя мама.
В растерянности я вышла из комнаты и остановилась на верху лестницы.
Вот оно. Обряд посвящения. Я одна дома. Значит, я уже не «ребенок младшего возраста», и завтра на детской площадке я смогу сказать: «Прошлым вечером меня не отсылали к няне. Я была дома одна». Представляю, как вытаращат глаза другие девочки. Я долго ждала своего часа, но когда он наконец пришел, я оказалась к этому не готова. Раньше мне думалось, что перемена произойдет автоматически, и, впервые предоставленная самой себе, я смогу хотя бы одним глазком увидеть образ того взрослого человека, каким мне суждено стать. Я ожидала, что мир сразу же изменит свой привычный детский облик и продемонстрирует мне таинственную взрослую сторону жизни. Вместо всего этого, став свободной, я почувствовала себя еще более беспомощным ребенком, чем прежде. Что же со мной было не так? Неужели я никогда не найду способ повзрослеть?
Я уже начала подумывать о визите к миссис Робб, но тут мне вспомнилось местечко получше. Я легла на живот и заползла под отцовскую кровать.
Пространство между полом и низом кровати заметно уменьшилось с той поры, как я была здесь в последний раз. В плечо мне уперся «курортный» чемодан, всегда одинаково серый – как при дневном свете, так и сейчас в полумраке. В нем хранились вещи для летнего отдыха: темные очки, запасные фотопленки, мамин купальный костюм, который она ни разу не надела, но и не решалась выбросить. С другого боку находилась картонная коробка. Повозившись с ее крышкой, я засунула руку внутрь. Спутанная гирлянда лампочек для рождественской елки. Переложенные ватой елочные украшения. Когда я лазила под кровать в прошлый раз, я свято верила в Деда Мороза. Теперь я была уже не столь наивна. Значило ли это, что я повзрослела?
Выбираясь из-под кровати, я задела локтем старую жестянку из-под печенья. Еще одна знакомая вещь: сколько помню, она была здесь всегда. Картинка с шотландскими утесами на плотно пригнанной крышке, которую мне все равно не открыть. Рассеянно, скорее по старой привычке, я попробовала – и крышка с такой легкостью поддалась моим окрепшим пальцам, что я даже вздрогнула от неожиданности. Внутри обнаружился паспорт отца и всякие официальные бумаги – одни напечатанные, другие написанные от руки. Там и сям мелькали печати и подписи с длинным росчерком.
Для меня слова «видеть» и «читать» давно уже значили одно и то же. Я бегло просмотрела бумаги. Свидетельство о браке моих родителей. Мое свидетельство о рождении – красными буквами на толстой бумаге кремового цвета. Подпись отца внизу. Я аккуратно сложила документ, переместила его в стопку к уже просмотренным и взяла следующий. Он был точь-в-точь таким же. Это меня озадачило. Зачем мне два свидетельства о рождении?
И тут я увидела отличие. Те же имена отца и матери, та же дата рождения, то же место, но другое имя.
Что произошло со мной в тот момент? Все в голове моей мгновенно распалось на мелкие частицы, а затем восстановилось уже в совершенно ином виде – это было одно из тех калейдоскопических превращений, какие порой претерпевает наш мозг.
У меня имелась сестра-близнец.
Я все еще была в смятении, когда мои любопытные пальцы машинально развернули следующий лист.
Свидетельство о смерти.
Моя сестра умерла.
Этим объяснялось многое.
Хотя и потрясенная внезапностью открытия, я в глубине души почти не удивилась. Сколько я себя помнила, у меня всегда было такое чувство – или даже не чувство, а знание, ввиду своей привычности не нуждавшееся в словесной формулировке, – будто рядом со мной постоянно присутствует нечто. Едва уловимое изменение в структуре воздуха по правую руку от меня. Сгусток света. Какое-то присущее только мне свойство, вызывавшее колебания в пустом пространстве. Мой бледный призрак.
Прижав обе руки к правому боку, я наклонила голову вправо, почти касаясь носом плеча. Эту позу я инстинктивно принимала всякий раз, когда испытывала боль, растерянность или какое-либо затруднение. Прежде я об этом не задумывалась, но теперь поняла смысл жеста: я искала свою сестру-близнеца. Искала там, где ей полагалось быть. Рядом со мной.
Понемногу мир возвращался на круги своя, и я подумала, глядя на два листка бумаги: «Так вот оно что». Потеря. Тоска. Одиночество. Странному ощущению, всегда бывшему со мной и отдалявшему меня от прочих людей, наконец-то нашлось объяснение. Все дело в моей сестре.
Прошло много времени; внизу хлопнула дверь черного хода. Я поднялась на ноги – онемевшие икры покалывало – и вышла на лестничную площадку второго этажа как раз к тому моменту, когда миссис Робб появилась у подножья лестницы.
– Все в порядке, Маргарет?
– Да.
– У тебя есть все, что нужно?
– Да.
– Если что потребуется, загляни ко мне.
– Хорошо.
– Они уже скоро вернутся, твои мама и папа.
И она ушла.
Я спрятала документы в жестянку, убрала ее на место под кроватью и вышла из спальни, прикрыв за собой дверь. Перед зеркалом в ванной комнате я испытала шок, когда мои глаза встретились с глазами отраженной в нем девочки. Я чувствовала, как лицо мое горит под ее взглядом, казалось проникавшим сквозь мою кожу вплоть до костей.
Но вот на лестнице послышались шаги родителей.
Я появилась из ванной и сразу попала в отцовские объятия.
– Неплохо справилась, – одобрил он. – Следов погрома не видно.
Мама выглядела бледной и уставшей. Поход в гости обернулся для нее очередным приступом головных болей.
– Да, – сказала она, – умница.
– Тебе понравилось быть дома одной, дорогая? – спросил отец.
– Это было здорово.
– Я так и думал, – сказал он. И, не удержавшись, снова обнял меня и поцеловал в макушку. – А сейчас тебе пора в постель. И не читай много перед сном.
– Не буду.
Чуть попозже я услышала, как родители возятся перед отходом ко сну: отец ищет в аптечке таблетки для мамы и наливает воду в стакан. Далее прозвучала его всегдашняя фраза: «Тебе станет лучше после того, как ты хорошо выспишься», – и дверь гостевой комнаты затворилась. Через несколько секунд до меня донесся скрип кровати в отцовской комнате, потом – щелчок выключателя.
Я знала, что такое близнецы. Клетка, из которой должен был вырасти один человек, необъяснимым образом разделяется так, что из нее выходят два абсолютно одинаковых человека.
Я когда-то была близнецом.
Мой близнец умер.
Чем же я стала после этого?
Сунув руку под одеяло, я прикоснулась к серебристо-розовому шраму в форме полумесяца на моем боку. Это был знак, оставленный мне сестрой. Как археолог, я исследовала собственное тело в поисках свидетельств его давнего прошлого. Тело это показалось мне хладным, как труп.
Все еще держа в руке письмо, я покинула магазин и отправилась наверх в свою квартиру. Лестничный марш сужался на каждом из трех этажей, занятых книгохранилищем. По мере подъема, выключая за собой свет, я начала формулировать выражения для вежливого отказа мисс Винтер. Я могла написать ей, что никак не подхожу на роль биографа. Меня не интересует современная литература. Я не читала ни одной из книг Виды Винтер. Я привыкла работать в библиотеках и архивах и ни разу не брала интервью у живого писателя. Мне было легче иметь дело с умершими людьми, тогда как с живыми, сказать по правде, я чувствовала себя не в своей тарелке.
Хотя последнюю фразу вставлять в письмо, пожалуй, не стоило.
Я решила не утруждать себя приготовлением ужина – довольно было и чашки какао.
Ожидая, когда согреется молоко, я посмотрела в окно. На ночном стекле отражалось лицо столь призрачно-бледное, что сквозь него были видны темные небеса. Мы прижались друг к другу: щека к холодной щеке. Если бы кто-нибудь видел нас в этот момент, он не смог бы понять, кто из нас кто, не будь между нами этой стеклянной границы.
О проекте
О подписке
Другие проекты