Ромочка и раньше так реагировал на тяжелые внешние впечатления. Закрывался у себя в комнате и сидел, угрюмо ожидая, когда неправильная реальность исчезнет и можно будет выйти в новую, хорошую.
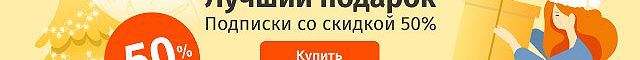
- Главная
- Библиотека
- ⭐️Дарья Бобылёва
- Цитаты из книг автора
Цитаты из книг автора «Дарья Бобылёва»
186
Сначала они научились сами походить на людей, а теперь учатся их подделывать, с ужасом понял Ромочка.
всякие-разные тоже боятся. У них и вид был растерянный, совсем как у обычных, живых дачников. Словно для них перемены оказались таким же внезапным потрясением, и они, свалившись неведомо откуда, теперь привыкали и обживались. На беженцев они были похожи, на робких переселенцев с узелками из старого кино – поняв это, Ромочка впервые пожалел всяких-разных.
Ромочка толком даже описать не мог, поэтому называл уклончивой скороговоркой – всякие-странные.
Все равно таял летний кусок дачного счастья, вожделенный и ускользающий еще со времен школы, института, работы, придуманных для того, чтобы отнимать время и вызывать спустя годы ничем не оправданную ностальгию…
Когда идешь куда-то один, не в городе, среди говорящих людей и орущих вывесок, а вот так, действительно один – всегда бормочется что-то само по себе в мозгу, так что давай, давай, бормочи…
В груди скакнуло, и Валерычу показалось на миг, что он не может уже отвести глаз, тянет оно его, требует рассмотреть, удостовериться – и испугаться уже окончательно.
И умиротворенные дачники двинулись за ней, аккуратно расступаясь, уклоняясь, отводя тело в сторону – лишь бы не задеть Катю, не дотронуться. Точно она была прокаженной, недостойной багрового Натальиного клейма, которое всех делало спокойными и счастливыми.
О проекте
О подписке
Другие проекты