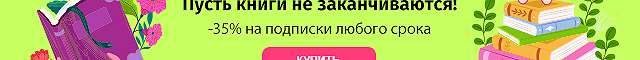
Конец природы
Теперь мы понимаем, почему политическая экология не в состоянии сохранить природу: если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы. Улитка может заблокировать плотину, Гольфстрим может внезапно исчезнуть, террикон – стать биологическим резервом, а черви – превратить почвы Амазонии в бетон. Больше нет никаких оснований для ранжирования различных сущностей в порядке их значимости. Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то они сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой. Давно пора, ведь мы уже практически не в состоянии заниматься политикой.
Читатель, возможно, возмутится этим парадоксом. Он имеет представление о глубинной [profonde] экологии в ее популярном изводе, этом расплывчатом движении, претендующем на то, чтобы реформировать политику во имя «высшего природного равновесия». Между тем глубинная экология находится максимально далеко от экологии политической, и путаница между ними вносит разлад в стратегию «зеленых» движений. «Зеленые» убеждены, что могут располагаться в самом широком политическом спектре: от самого радикального до реформистского, но при этом согласны с тем, что глубинная экология занимает крайнюю позицию. Отсюда параллель, которая совершенно не кажется нам случайной: глубинная экология завораживает экологию политическую, как коммунизм завораживал социализм, а змея – свою жертву… Но глубинная экология не является радикальной формой экологии политической; она вообще не имеет к ней отношения, так как иерархия существ, которую она выстраивает, состоит из объектов вне зоны риска, лысых, современных, которые располагаются ярус за ярусом, в определенном порядке: от Космоса до микробов, не забывая о Матери-Земле, человеческих сообществах, обезьянах и т. д. Производители этого знания неизменно остаются за кадром, точно так же, как источники возможной неопределенности, а разделение между объектами и миром политического, на котором они так настаивают, остается настолько совершенным, что может показаться, будто у глубинной экологии нет другой цели, кроме принижения политического и уменьшения его власти, которую надлежит подчинить куда более могущественной и куда лучше замаскированной власти природы и невидимых экспертов, решающих, что и как она должна и может делать (28). Претендуя на то, чтобы освободить нас от антропоцентризма, глубинная экология возвращает нас в Пещеру, потому что она целиком зависит от классического определения политики, которую природа делает беспомощной и от которой политическая экология, по крайней мере посредством своих практик, пытается нас избавить (29).
Мы наконец понимаем, почему должны различать то, чем занимаются экологические активисты, и то, что они думают о своей деятельности: если мы определяем политическую экологию как то, что увеличивает число рискованных соединений, то даем ей новый важный принцип отбора, не ограниченный вопросом о том, занимается ли она природой, тем более что подобный вопрос очень скоро покажется нам не только поверхностным, но и политически опасным. В своей практике политическая экология постоянно нарушает порядок классификации существ, открывая во все большем количестве неожиданные взаимосвязи и в корне изменяя представления об их важности. В любом случае, если в силу модернистской теории, от которой, как ей кажется, она не в состоянии отказаться, и если она все еще верит, что «защищает природу», то она будет столь же часто терять свой предмет, сколь и попадать наугад. Ее будет в еще более извращенной манере смущать глубинная экология, защищая наиболее важные существа, расположенные в самом строгом и непререкаемом порядке, всегда оказываясь выше и используя в своих интересах власть, которой ее наделил миф о Пещере. Всякий раз сталкиваясь с существами, связи между которыми непонятны и непредсказуемы, политическая экология будет сомневаться в себе самой, полагая, что теряет свою силу, приходя в отчаяние от собственной беспомощности и стыдясь этой слабости… Как только ситуация начнет развиваться непредвиденным образом, то есть практически всегда, политическая экология будет считать, что ошибается, поскольку она надеялась отыскать, в соответствии с принципами природы, возможность расставить в порядке важности все существа, связь между которыми она пыталась установить. Но именно ошибаясь и вводя лохматые объекты, возможная форма которых непредсказуема и делает невозможной использование самого понятия природы, политическая экология наконец-то занимается своим делом, обновляет политическую систему, избавляя нас от модернизма и препятствуя бесконечному умножению лысых и не подверженных риску объектов, с их невероятным перечнем неоспоримых истин, невидимых ученых, предсказуемых эффектов, просчитанных рисков и неожиданных последствий.
Теперь мы видим проблему, с которой сталкиваемся, смешивая практику и теорию политической экологии: оппоненты как глубинной, так и поверхностной экологии чаще всего упрекают ее за то, что она сливает человека с природой, забывая при этом, что человечество определяет себя именно через свою «оторванность» от законов природы, от «данности», от «простой причинности», «чистой непосредственности» или «предрефлексивности» (30). Они вменяют экологии в вину ее желание низвести человека до уровня объекта, заставив его ходить на четвереньках, как иронически заметил Вольтер по поводу Руссо. «Именно потому, что мы, утверждают они, свободные субъекты, несводимые к простым законам природы, мы достойны называться людьми». Что лучше всего подходит под это определение оторванности от природы? Конечно же политическая экология, потому что она кладет конец тысячелетней неразрывной связи природы и публичного обсуждения! Она и только она выводит из игры политическое по своей сути понятие природного порядка.
Мы без труда понимаем, что уже не можем мыслить политическую экологию как принципиально новую сферу деятельности, необходимость которой была осознана Западом в середине XX века, как если бы, начиная с пятидесятых или – не суть важно – шестидесятых или семидесятых годов, политики наконец-то поняли, что вопрос природных ресурсов должен быть включен в перечень их повседневных забот. Никогда, начиная с первых греческих дискуссий о совершенстве общественной жизни, о политике не говорили в отрыве от природы (31); или, точнее говоря, к природе никогда не обращались, не желая тем самым преподать политический урок. Не было написано ни единой строчки, по крайней мере в западной традиции (32), где за такими словами, как природа, природный порядок, закон природы, естественное право, жесткая причинность, незыблемые законы, не следовало бы, через несколько строчек или параграфов, некоторое утверждение о том, как реформировать общественную жизнь. Разумеется, можно изменить смысл этой притчи и с одинаковым успехом критиковать как социальный порядок при помощи природного, так и порядок природы с точки зрения человека; можно даже попытаться положить конец их связи; однако в любом случае нельзя сделать вид, будто бы речь идет о принципиально различных сферах деятельности, которые развивались отдельно друг от друга и впервые пересеклись каких-то тридцать или сорок лет назад. Концепции политического и концепции природы всегда оставались в тесной связке подобно двум сиденьям на детских качелях: когда одно поднималось, другое неизменно стремилось к земле. Никогда не существовало политики, которая не была бы одновременно политикой природы, как и природы, которая не была бы политической. Эпистемология и политика – это, как мы теперь поняли, составные части одного и того же процесса, объединенного под грифом (политической) эпистемологии, чтобы сделать недоступными для понимания как научные практики, так и саму суть общественной жизни.
Этот двойной результат, полученный за счет совместных усилий социологии науки и практической экологии, позволит нам дать определение ключевому понятию коллектива•, смысл которого мы постепенно будем уточнять. На самом деле, важность самого понятия «природы» заключается не в исключительном характере сущностей, которые она предположительно объединяет, и не в том, что они относятся к какому-то определенному региону бытия. Сила воздействия этого выражения объясняется тем, что мы всегда употребляем его в единственном числе: та самая природа [la nature]. Когда мы апеллируем к понятию природы, объединение, которое она узаконивает, значит бесконечно больше, чем онтологическое качество «природности», происхождение которого она гарантирует. Благодаря природе мы убиваем сразу двух зайцев: мы определяем некое существо по его принадлежности некоторой сфере реального, одновременно помещая его в объединенную иерархию, которая простирается на все виды существ от самых больших до самых малых (33).
Доказательства привести не сложно. Замените повсюду единственное число множественным, природу на природы. Этим природам будет невозможно найти какое-либо применение. «Естественные» права? Сложно сочинять конкретные законы, руководствуясь подобным множеством. Как вдохновить пылкие умы на классический спор о роли генетики и окружающей среды, если мы примемся сравнивать влияние природ и культур? Как умерить аппетиты промышленности, если мы говорим, что она должна защищать «природы»? Как сделать науки своим рычагом, если мы считаем их науками, изучающими «природы»? Каким образом «законы природ» могут смирить гордыню законов человеческих? Нет, множественное число категорически не подходит политическому определению природы. Множество плюс множество в сумме дают еще одно множество. Однако, начиная с мифа о Пещере, именно единство природы является ее главным политическим достоинством, потому что только это объединение, это упорядочивание, может конкурировать с иной формой объединения, компоновки, самой что ни на есть традиционной и издревле называемой той самой политикой. В этом споре между политикой и природой, как в старой тяжбе, что на протяжении всех Средних веков противопоставляла Папу Императору, можно найти две лояльности по отношению к двум одинаково легитимным типам тотального, между которыми разрывалась тогда совесть христианина. Если сегодня мы к месту и не к месту используем понятие мультикультурализма•, то понятие мультинатурализма• все еще кажется нам шокирующим и лишенным всякого смысла (34).
Какое влияние на этот давний спор оказывает политическая экология? На это указывает само ее название. Вместо двух отдельных полей, в которые можно попытаться поместить все иерархии существ, чтобы иметь возможность выбирать между ними, никогда, впрочем, не достигая внятного результата, политическая экология предлагает учредить единственный коллектив, роль которого как раз и заключается в обсуждении подобной иерархии и поиске приемлемого решения. Политическая экология предлагает переместить объединяющую функцию различных классов сущего из двойного поля политики и природы в единое поле коллектива. По крайней мере, она занимается этим на практике, не позволяя ни природному, ни социальному порядку по отдельности и окончательно определять, что принимать в расчет, а что нет, что разделено и что связано, что находится внутри, а что – снаружи. Умножение объектов, которые ведут к кризису классического конституционного порядка, это то средство, которое политическая экология, со всей свойственной ей практической изощренностью, сумела использовать для делегитимации одновременно политической традиции и того, что можно назвать традицией натуралистической – Naturpolitik•.
Но именно того, что она осуществляет на практике, по крайней мере в нашем понимании, политическая экология старательно избегает в теории. Даже если она ставит под вопрос природу, проблема ее единства никогда не рассматривается (35). Причина этого несоответствия вскоре прояснится, хотя нам потребуется целая книга, чтобы извлечь из этого пользу. Пока мы принимаем всерьез (политическую) эпистемологию, то есть пока мы не изучаем с одинаковым интересом научные практики и практики политические, природа ни в коем случае не может стать объединительной силой высшего или сопоставимого с политикой порядка. По крайней мере пока. А когда сможет? Как обосновать употребление единственного числа: «та самая» природа? Почему она не может предстать как множество? Почему она, наконец, не решит опираться на политику, как Папа на Императора, чтобы мы увидели, что речь идет о двух ветвях власти, которые можно критиковать одновременно? Благодаря одному волшебному изобретению, от которого она уже давно избавилась на практике, но для того, чтобы сделать это в области теории, потребуется приложить немало весьма болезненных усилий. Из-за разделения между фактами и ценностями, которым мы займемся в третьей главе. Природа, как мы охотно признаем, обладает мощной объединительной силой, но исключительно в отношении фактов. Политика, все с этим согласятся, тоже наделена силой, способной объединять, устанавливать иерархию, упорядочивать ценности и только лишь ценности. Два порядка выглядят не просто различными, а несовместимыми. Не об этом ли велся в Средние века спор между сторонниками Папы и Императора? Именно об этом, но сегодня мы представляем их как вполне совместимые, хотя и враждебные ветви власти, по той причине, что мы подвергли их одновременной секуляризации. В этом и заключается наша гипотеза: мы еще не подвергли секуляризации две связанные друг с другом ветви власти, коими являются природа и политика. Они по-прежнему представляются нам как две совершенно различные области, причем первая даже не заслуживает того, чтобы называться властью. Мы все еще живем в плену мифа о Пещере (36). Мы все еще ждем спасения от двухпалатного парламента, одна из палат которого называется политической, а вторая всего лишь выражает скромное желание определять факты, нисколько не сомневаясь, что эта надежда на спасение грозно нависает над нашей общественной жизнью, подобно тому как когда-то небо грозило «нашим галльским предкам». Эта ловушка установлена (политической) эпистемологией, именно она до сих пор мешала экологическим движениям прийти к адекватной политической философии.
Мы пока не надеемся убедить читателя в справедливости этого важного утверждения, возможно самого трудного для понимания во всем нашем совместном обучении. Нам потребуется вся вторая глава, чтобы придать связность понятию коллектива людей и нелюдéй, вся третья глава, чтобы избавиться от разделения на факты и ценности, а затем – вся четвертая, чтобы заново определить этот коллектив при помощи различных процедур, как научных, так и политических. Но читатель, без сомнения, уже готов допустить, что политическая экология больше не может быть описана как нечто, побуждающее политический разум заниматься экологическими проблемами. В этом случае можно было бы говорить о непоправимом смещении фокуса с непредсказуемыми последствиями, потому что оно полностью перевернуло бы смысл истории, помещая природу, изобретенную как средство сделать политику беспомощной, в эпицентр движения, призванного ее ассимилировать. Мы считаем, что куда продуктивнее было бы рассматривать новый подъем политической экологии как то, что, напротив, положит конец
О проекте
О подписке
Другие проекты